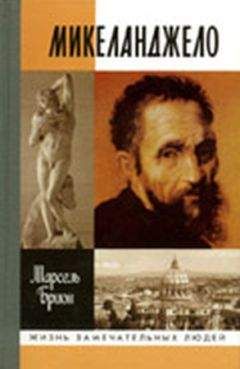— Живой! — крикнул врач. — А теперь посмотрим, что у него с ногой. — Приказав санитару держать Никиту за плечи, он наклонился, сжал раненую ногу и изо всей силы дернул. Никита заорал не своим голосом от нестерпимой боли. — Молчи! Молчи! — прикрикнул врач, поправляя очки, все время сползавшие на нос. — Значит, поломал кости. Носилки!
— Носилок нет, не брали с собой, — флегматично произнес санитар.
— Тогда на коня! На моего коня!
— Конь на конюшне.
— Не на того! На повозку.
— Есть на повозку! В один миг положим.
Полевое учение продолжалось, солдаты мчались вперед, их подгоняли офицеры. А Никита, лежа на повозке, стонал. Санитар вез его в лазарет. Нога так горела, точно к ней приложили раскаленное железо. Ему невольно вспомнилась помещичья кузница, где он был молотобойцем. Старый кузнец учил его раскалять на горне железные штыри, наставлял, как нужно мехами раздувать уголь и ждать, пока штырь покраснеет.
«Видишь, как раскаляется, — тихо говорил простуженным голосом кузнец. — Это железо готовится покориться человеческим рукам. Из него что угодно можно выковать. Оно послушное. Но будь осторожен — может и смерть причинить. Был один подручный у меня. Давно это случилось. Вот такой длинный стержень разогревали, раскалился он так, что искры летели, когда его переворачивали большими клещами. А тот подручный был сорвиголова, все прыгал вокруг. И вот, когда уже нужно было вытаскивать стержень, он начал пританцовывать и присвистывать. И раскаленный металл выскользнул у него из рук, упал на ногу. Прожег ногу до кости. Я подбежал к нему, отпихнул ногой стержень, а парень кричит: «Жжет! Ой, жжет, дяденька!» Я схватил кувшин, набрал воды и начал поливать ногу, содрогаясь от душераздирающего крика: «Жжет, жжет, дяденька!» До сих пор слышу этот крик. Так и потерял он ногу. Отрезали врачи. Ходил на деревяшке».
В эти тяжкие для него минуты вспомнил Никита дедушку-кузнеца и его несчастного подручного. А нога горит, нельзя пошевелить. «Деревяшка!» Какое страшное слово! Неужели и он будет ковылять на деревяшке? Видел двоих таких, пришли с Крымской войны, под Севастополем оставили ро одной ноге.
Хоть и сердитый с виду полковой врач, но сердце у него было доброе. Где-то нашел извозчика и догнал санитарную повозку.
— Куда везешь? — набросился на санитара.
— В полковой лазарет.
— Сворачивай направо. «В полковой лазарет»! Тоже мне доктор! Что я там сделаю? Хоть и наложили на ногу шину, этого мало. Поедем к профессорам.
Он отвез Никиту в Медико-хирургическую академию, а сам поспешил на квартиру к коллеге, застал его за завтраком.
Вместо приветствия выкрикнул:
— Коллега! Скорей в академию. Гвардейца спасать. Только что ранен.
— Добрый день, Петр Федорович, — ответил хозяин. — Садитесь к столу.
— Благодарю, Митрофан Иванович. Извините, — поклонился жене профессора. — Добрый день. Не гневайтесь, хочу вот забрать Митрофана Ивановича.
Они дружили издавна, еще с той поры, когда работали вместе с Николаем Ивановичем Пироговым при обороне Севастополя.
— Пошли, пошли, коллега! — обнял Петра Федоровича профессор. — Узнаю пироговскую школу. «Первым делом — к больному!» — так учил нас Николай Иванович?
— Да, да, Митрофан Иванович. Пошли, пошли. Уж больно хорош гвардеец! Как говорят, кровь с молоком. Представьте себе, он из той местности под Полтавой, где квартировали наши госпитали, когда возвращались из Севастополя после войны.
Пока пришел профессор с врачом, Никиту уже положили на койку, сняли с него амуницию, раздели.
— Покажись-ка, гвардеец, — подошел к Никите профессор. — Кровь с молоком? Да у него губы мелом намазаны. — Он сел возле койки. — А ну-ка, давай, гвардеец, ногу. — Начал ощупывать. — Болит?
Никита утвердительно кивнул головой.
— Молодец! А тут болит? — нажал выше колена. — Нет? Это хорошо. Значит, ниже колена.
— Митрофан Иванович! Боюсь, не раздроблена ли кость?
— Посмотрим, Петр Федорович, — спокойно сказал профессор. — Расскажи, воин, что произошло? Угу… — выслушав путаный ответ Никиты, сделал вывод: — Удар большим предметом. Будем пробовать. — С усилием нажал пальцами пораженное место.
Никита застонал.
— Стони, стони, воин… В Севастополе не воевал?.. Значит, еще под стол пешком бегал. Угу… — продолжал нажимать мясистыми пальцами. — А тут… — нажал на пальцы ног. — Не болит? А тут? — снова начал мять и нажимать выше колена. — Значит, — глянул на Петра Федоровича, — бедренная кость цела. Посмотрим ниже. — Он провел пальцами по коже и с силой нажал, а потом отпустил.
Никита тихонько ойкнул и замолчал. Профессор многозначительно взглянул на полкового врача:
— Думаю, что голень тоже цела, не раздроблена. — И улыбнулся Никите. — Не печалься, богатырь. Топором рубить не будем и пилой пилить тоже не будем. Будешь с ногой. Но… есть у тебя жена?
Никита промолчал.
— Угадал. Значит, есть. Пусть она не ругается из-за того, что слегка хромать будешь. И пусть молится богу и благодарит деву Марию, что мы с Петром Федоровичем ногу тебе не оттяпали.
Уже две недели лежал Никита в просторной палате Медико-хирургической академии. Боль постепенно уменьшалась, но профессор не позволял вставать. Навещал его и симпатичный Петр Федорович. Он внимательно осматривал богатыря преображенца, как он называл Никиту, и оставался довольным. Обрадовал его, сказав, что в армии больше служить не придется, отпустят домой. Услышав это, Никита чуть было не вскочил с койки.
Домой! Об этом он мечтал почти два года, с первого дня, когда привели новобранцев в казарму. Подумав о Запорожанке, сразу вспомнил Машу. Как он теперь будет жить без нее? Бывали такие нестерпимые минуты, когда хотелось подхватиться с койки и мчаться на Садовую к ней, к Маше. А зачем мчаться? Она не видела его уже месяц, и, наверное, это ее уже не тревожит. Забыла запорожанского гвардейца, да и не пара он ей! Селянин и горожанка! Девушка родилась и выросла в Петербурге, не видела никогда ни степей, ни колосящихся рожью и пшеницей нив. Зачем ей их захолустное село, где единственное высокое здание — церковь.
Несколько раз проведывали Никиту однополчане из его роты. Их посылал Петрушенков. Он и сам однажды навестил его. Пришел, сел на табуретку и долго смотрел на своего солдата.
— Смотрю я на тебя, Никита, и думаю, чем ты так женщин околдовываешь? И в своем селе женился, и тут с Аверьяном к красивой девушке ходил, и моя фельдфебельша уши прожужжала, все расспрашивает о тебе. Понравился ты ей. А что ты так смотришь, зенками своими стреляешь? Фельдфебельша! Я на прошлой неделе женился. Командир полка дал разрешение, и мы обвенчались в полковой церкви. Все офицеры поздравили меня, собрали деньги. На обзаведение молодоженам, сказали. Целых двадцать пять рублей дали. Вот я и говорю — моя фельдфебельша все тебя хвалит, говорит, ну и красивый же тот солдатик, что письма приносил, как нарисованный, и такие усики, говорит, завлекательные, а глаза так и манят к себе.
Растравил душу Петрушенков напоминанием о Маше. Лучше бы не вспоминал о ней. И без фельдфебельской похвалы Маша из головы не выходила.
Никита лежит, поглядывает в окно. Сегодня воскресенье. Врачебного обхода не будет. Только санитары должны принести еду. Кажется, уже время и завтракать, а они, лодыри, куда-то запропастились. Соседи бурчат, тоже санитаров ругают.
И не заметил, как открылась дверь. Услышав голос профессора, повернул голову.
— Прошу, заходите, барышня. Вот он, ваш раненый, в левом углу, около окна. Гвардеец! Принимай гостей. А я пойду. Кланяюсь!
Верить или не верить своим глазам? На пороге стояла Маша. Смотрит на Никиту и не трогается с места.
Он был поражен неожиданным видением. Забыл обо всем: о поврежденной ноге, о соседях по палате, обо всех своих печальных раздумьях в бессонные ночи. Не находил слов, только поднял руки, обхватил ими голову. И смотрел… Смотрел на Машу и думал, что это сон, ведь она не один раз снилась ему в этой неуютной, мрачной палате. Просыпался среди ночи и сожалел, что это всего лишь тревожное воображение. Может, и сегодня это сон? Однако за окнами светит яркое солнце.
— Мне разрешил профессор, — наконец тихо произнесла Маша и направилась к Никите.
А он силился подняться, опирался на локти, пытался пошевелить взятой в гипс ногой.
— Не вставай! — услыхал ее шепот. Она уже была рядом с ним. Быстро положила на одеяло цветы и бумажный сверток. Потом опустилась на колени и прижалась к Никите, сухими горячими губами прильнула к его побледневшим губам.
Он обхватил ее за шею и притянул к себе. Они не обращали внимания на присутствующих. Да больные сами почувствовали, что они лишние, поспешно вышли из палаты, опираясь на костыли. Остался только один, лежавший в дальнем углу, да и тот отвернулся к стене и укрылся одеялом.