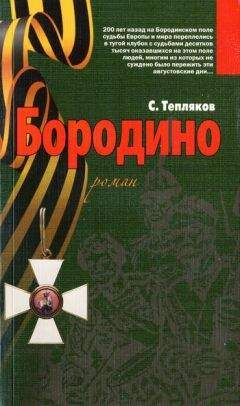Однако издержки столь высокого доверия оказались велики: многие полагали, что Левенштерн имеет на Барклая влияние, чуть ли не вся кампания делается под диктовку Левенштерна, так что он в общем-то и есть виновник всех неудач. Совершенно неожиданно Левенштерн сделался вместе с Барклаем изгоем. Потом и вовсе произошёл случай, доставивший Левенштерну множество проблем: накануне боя под Рудней русские захватили бумаги штаба генерала Себастиани, среди которых оказался и план русской атаки на этот день. Ермолов тут же сказал, что план этот передал французам Левенштерн, больше некому (а он и впрямь ведь знаком был с Себастиани еще с 1809 года, когда Россия была союзницей Франции).
Так оказалось, что изгой – это ещё не самое плохое: теперь выходило, что Левенштерн чуть не французский агент. Сам Левенштерн и не подозревал о той сети, которая плетётся, и в которую он вот-вот должен был попасть. Только в Москве, куда Левенштерна неожиданно отправили перед самой битвой, он от военного губернатора графа Ростопчина узнал об обвинениях и о том, что дело может кончиться ссылкой в Пермь. Спасло Левенштерна то, что Ростопчин поверил своему сердцу и решил, что Левенштерн не предатель.
Левенштерн приехал назад, в армию, вечером 24 августа, безо всякой радости, словно в тюрьму. Главной болью было то, что Барклай не сделал никаких попыток помочь ему. «А ведь достаточно было вспомнить и сказать всем, что в эти дни я был в Смоленске и никаких планов Себастиани передавать не мог, потому что про решение драться под Рудней даже не знал!»… – думал Левенштерн и эта мысль не оставляла его. Он понимал, что всё объясняется просто: Барклая самого уже открыто обвиняли в предательстве, так что его слова вряд ли имели бы вес. Но даже при этом, считал Левенштерн, командир должен был вступиться за своего офицера. Или не должен?
В таких раздумьях, избегая встречаться с Барклаем взглядом, Левенштерн прожил кое-как 25 августа. Настал день генеральной битвы. Во всё время начавшегося сражения Левенштерн пытался настроиться на тот лад, который бывал у него прежде в бою: забыть обо всём, вдыхать запах пороха, играть с пулями наперегонки. Но не мог. Сам себе удивляясь, он не чувствовал ничего из того, что прежде, да не так уж и давно, составляло главные впечатления его жизни. Явное желание Барклая умереть, которое ещё недавно привело бы Левенштерна в священный трепет, сейчас раздражало его: осколки ядер, пущенных явно по Барклаю, уже поразили двоих его адъютантов. Не то чтобы Левенштерн боялся стать третьим – он просто полагал сегодня, что в смерти человека на поле боя всё же должно быть больше смысла.
Лошадь Левенштерна летела стрелой. «Что бы там могло было быть?» – думал Левенштерн, и вдруг увидел то, чего и в мыслях не допускал – навстречу ему в полном беспорядке бежали русские солдаты. «Да неужели прорвался француз?!» – скорее удивлённо, чем со страхом, подумал Левенштерн, и поймал с лошади одного из солдат за воротник:
– Чего бежишь?
– Французы! Французы! Уйма! Всей армией валят! – кричал солдат.
Левенштерн бросил его и поехал вперёд. Солдаты бежали от кургана (это были те самые батальоны, которые бросились бежать при виде полка Бонами). Левенштерн искал глазами барабанщика или трубача, надеясь с их помощью остановить хоть сколько-нибудь людей. И тут, не веря глазам, он увидел стоящий колонной пехотный батальон! «Есть Бог на свете!» – подумал Левенштерн, подлетая к колонне. Кругленький толстенький офицер выкатился ему навстречу.
– Чего ж вы стоите?! – проговорил Левенштерн. – Именем главнокомандующего приказываю – вперёд! Вперёд!
Батальонный командир последние несколько минут ни на что не мог решиться. Батальон его только чудом удерживал строй среди моря бегущих и вот-вот мог сам пуститься наутёк. Но тут вдруг, от слов Левенштерна, всё стало просто и ясно: вперёд. И пусть там и правда вся французская армия – вперёд!
– Ну что, ребята, дадим французу попробовать русского штыка?! – закричал толстенький офицер высоким голосом. Солдаты молчали, но Левенштерн вдруг почувствовал, что настроение этой массы людей, вот только что готовых бежать, переменилось мгновенно – они наливались яростью и свирепели.
– Прикажите вашим людям, чтобы не кричали «ура!»… – сказал Левенштерн. – Только на самом верху, на самом верху! А то дыхания не хватит.
– Ребята, вперёд! За мной! – прокричал Левенштерн, вынимая саблю и пришпоривая свою лошадь. Батальон пошёл вверх по крутому склону кургана. Толстенький офицер шёл пешком, вытирая круглое красное лицо платком. Левенштерн написал потом о нём в своих воспоминаниях «в нём был священный огонь», но имени его так никогда и не узнал – не нашёл его после боя.
Они поднимались по склону холма. Левенштерн увидел разрушенный палисад, служивший, видимо, тыльной стенкой редута. Внутри, на площадке, ходили французы, ещё, похоже, не пришедшие в себя от своей удачи.
– Ура! Ура! – прокричал Левенштерн. – В штыки!
– Ура! – взревели солдаты и бросились сквозь проломы палисада внутрь.
Левенштерн бросил своего коня на группу французов. Конь растолкал их грудью, Левенштерн пластал саблей то в одну, то в другую стороны. Один из французов, в чёрном мундире, расшитом золотом, вскинул было пистолет, но Левенштерн успел рубануть француза саблей по лицу, и тот закричал, зажимая хлынувшую будто вино кровь. Оглядываясь, Левенштерн вдруг понял, что французов-то не так уж и много. «Да мы победим!» – подумал Левенштерн, до этого всем нутром подготовившийся к смерти.
По всей площадке редута гонялись за французами солдаты в зелёных мундирах. Того, кого Левенштерн полоснул саблей, солдаты подняли на штыки и так припёрли к стенке редута. Француз что-то истошно кричал. Левенштерн прислушался – француз кричал: «Же сюи ан руа! Же сюи ан руа!».
– Бросьте его, ребята, – прокричал, подъезжая, Левенштерн. – Он какой-то король.
Один из солдат, молодой егерский фельдфебель Золотов, услышав это, кинулся в толпу, растолкал всех и схватил несчастного Бонами (это был именно он) за воротник залитого кровью мундира.
– Тихо! Тихо! – кричал Золотов. – Хватит ему уже!
Левенштерн спрыгнул с коня и сказал Золотову, улыбаясь:
– Веди его к Кутузову, может и правда король. За генералов положен крест, а уж за короля даже не знаю, чем тебя наградит Кутузов.
Тут Бонами оставили силы и он упал на землю. Золотов собрал солдат и они понесли Бонами прочь на перекрещенных ружьях. Левенштерн оглянулся, ища взглядом толстенького офицера.
Вместо него он вдруг с удивлением увидел, как через мёртвых и раненых шагает к нему со шпагой в руке так же удивлённо глядящий на него Ермолов. Ермолов остановился на миг, потом подошёл и протянул руку. Левенштерн молча пожал её и они обнялись.
– Поздравляю вас, Владимир Иванович, с Георгиевским крестом! Уж я всё сделаю, чтобы вы его получили! – с чувством сказал Ермолов. И, помолчав, добавил: – И вы уж простите меня сам знаете за что.
Левенштерн внимательно посмотрел на него и кивнул.
– А вы-то как здесь, Алексей Петрович? – спросил он.
– Как вы с Барклаем уехали, приехал вестовой с левого фланга с известием, что князь Багратион ранен и флеши потеряны. Меня и Кутайсова Кутузов отправил исправить дела…. – ответил Ермолов. Левенштерн потрясённо смотрел на него – столько было новостей и каких!
– Едем мы мимо, пули поют… – Ермолов настроился на иронический лад. – И тут видим – бегут наши воины с редута! Я даже и не помню, какие слова я нашёл, чтобы их поворотить. А ведь поворотил! – он горделиво вскинул голову. – И как есть, толпой, пошли мы назад. А вы молодец! Знайте: я всегда буду приятелем человека, которого видел на белом коне впереди Томского полка при атаке этого редута!
Левенштерн усмехнулся и подумал, что обо всём этом приятно будет вспоминать всю жизнь. (Он ошибся – потом Ермолов говорил всем и везде, что батарею отбил он один, про Левенштерна в мемуарах своих не писал, а чтобы получить Георгиевский крест, Левенштерну пришлось летом 1813 года, почти через год, писать Барклаю рапорт. Поэтому Левенштерн о своем подвиге на Шульмановой батарее не любил ни рассказывать, ни думать).
– А где же Кутайсов? – спросил Левенштерн.
– А вот я и думаю… – спохватился Ермолов. – Где же он?..
Они пошли по площадке редута, кричали, спрашивали солдат и офицеров, выглядывали за вал, но Кутайсова так и не было. Ермолов решил, что, может, тот поехал по каким-то надобностям назад, в Горки, хотя и понимал отлично, что ни по каким таким надобностям Кутайсов отсюда бы в Горки не уехал. Потом была поймана бегавшая по полю лошадь Кутайсова – седло и стремя на ней были в крови.
Ещё позже какой-то солдат принёс шпагу и орден Кутайсова – тот самый Георгиевский крест третьей степени. Страшная его участь стала очевидной. Ермолов всю жизнь помнил оказавшиеся пророческими слова: «Мне кажется, меня завтра убьют»… (Правда, позже, Ермолов, любивший преподносить себя как человека исключительного, стал рассказывать, будто это он предсказал Кутайсову скорую смерть, прочитав её печать на лице товарища. Но поверить в это трудно). Тело Кутайсова так и не нашли.