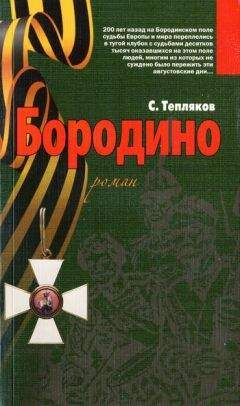Кутузов сразу велел объявить по линии войск для воодушевления, что Неаполитанский король в плену. Несколько человек ускакали. Тут принесли «мюрата»: лицо несчастного было так изрублено, что он едва смог пояснить, что он генерал Бонами. (Мюрат мог попасть в плен позже, во время боя возле Семёновского, когда на него кинулась русская кавалерия – Мюрат при этом успел укрыться в каре одного из французских полков).
– А с чего же ты решил, что он король? – смеясь, спросил Кутузов фельдфебеля Золотова, стоявшего на страже добычи.
– Так сам-то я по-ихнему не смыслю, но бывший на кургане господин майор сказал, что это король, – ответил Золотов, уже боявшийся, что не будет ему никакой награды. (Потом его произвели в подпоручики – из солдат он разом прыгнул в офицеры).
Бонами расспросили, он по мере сил отвечал, что да, назвался королём – надеялся, что кто-нибудь из русских офицеров поймёт его и спасёт. У Бонами болело всё (у него было то ли двенадцать, то ли двадцать две раны, нанесённых штыками и саблями), но больнее всего ему было то, что жар-птица – герцогский титул, дворцы, дружба с императором, деньги, золотые кареты, первые красавицы империи – всё, всё, всё это выскользнуло из рук как песок. Чуть было не выскользнула из тела и жизнь – как и почему ещё он догадался крикнуть эти спасшие его слова?!
Сквозь заливавшую лицо кровь Бонами видел этих людей – бесформенного старика в бескозырке (он понимал, что это и есть Kutuzoff), каких-то ещё офицеров, которые подходили смотреть на него, как на пойманного живым кабана. Бонами думал, что надо бы встать – французский генерал и в плену французский генерал! – но не мог. Кровь вытекала из него через множество дыр, и он всё сильнее слабел.
– Хватит смотреть, чай не на ярмарке! – сказал наконец Кутузов. – Унесите, пусть перевяжут беднягу. Он всё же герой – ведь как ловко у нас батарею исхитил! Если бы не Ермолов (Ермолов уже тогда рассказал только о себе), если бы не Ермолов…
Сражение шло чуть больше четырёх часов, а французы уже сбили его левый фланг и только чудом не прорвали центр. Кутузов боялся представить себе, что было бы сейчас, если бы положение в центре не удалось восстановить. «Побежали бы, как при Аустерлице? – подумал он. – Или стояли бы? Вот ведь – стоят». Его передёрнуло при воспоминании о том, как побежали войска при Аустерлице и как его зять Фёдор Тизенгаузен со знаменем пошёл останавливать их. Никого не остановил. «Придётся и мне брать знамя и идти… – подумал вдруг Кутузов. – Если побегут, живым оставаться нельзя, проще умереть». Где-то он слышал слова «Мертвые сраму не имут» и теперь задумался над ними – о чём это? Мертвым не стыдно? Умер – и очистился? «Получается: умер – и ни в чём не виноват? – подумал он. – Всё мы, русские, в смерти облегчения ищем, по-нашему: умер, а там хоть трава не расти, погиб – значит, герой. Победить надо, а не умереть… А умереть – дело нехитрое».
Но как победить и что такое победить в таком бою? Этого Кутузов не мог понять. Самый момент был бы пустить французам в тыл корпус Тучкова 1-го, но Кутузов уже знал, что Тучков бьется с поляками Понятовского возле Утицкого кургана. Как он оказался около него, Кутузов не понимал – 3-му корпусу была определена другая позиция, но выходило, что Тучков пригодился и так – иначе, думал Кутузов, вышел бы Понятовский к самому Псарёво, прямо к артиллерийским резервам.
Вернувшийся с левого фланга Карл Толь сообщил Кутузову о том, что казаки нашли брод на французский берег и готовы перейти Колочу, атаковать, а там – как Бог даст. После известия о взятии в плен «мюрата» на командном пункте впали в восторг и хотели верить, что удача перешла к русским. Да ещё и Толь пользовался такими словами, так всё преподносил («сильная диверсия кавалерийского корпуса на левом фланге противника», «новый могучий импульс всему делу», «успешное решение сражения»), что Кутузов, хотя и понимал, что речь идёт всего лишь о посылке в тыл французам пяти тысяч казаков атамана Платова – мизерного числа, всё равно что булавкой колоть слона, – захотел вдруг поверить в то, что и правда получится сильная диверсия (да и если попасть слону в глаз, то и булавка – оружие). К тому же и казаки в этом бою всё равно оставались не у дел, а так вдруг да выйдет польза? Для усиления вместе с казаками отправлен был и кавалерийский корпус Уварова. Теперь оставалось только ждать…
В свите генерала Уварова, командовавшего при Бородине 1-м кавалерийским корпусом, состоял в этот день Карл Клаузевиц, один из тех прусских офицеров, которые перешли на русскую службу после разгрома своей отчизны. Клаузевиц уже тогда был в Европе знаменитостью: после разгрома Пруссии он читал лекции по военной истории в Берлинском университете и лекции были таковы, что Наполеон лично потребовал запретить Клаузевицу преподавать. В 1811 году вместе с ещё одним не сдавшимся пруссаком, Гнейзенау, Клаузевиц разрабатывал план народного восстания в Пруссии. В начале 1812 года, прежде чем перейти на русскую службу, Клаузевиц составил три манифеста, в одном из которых писал: «Я считаю и признаю, что народ не может стоить дороже, чем его достоинство и свобода. Именно это он должен защищать до последней капли крови. Постыдное пятно малодушия никогда не может быть стёрто. Эта капля яда в крови нации потом перейдёт на потомков, калеча и разрушая силы будущих поколений. Но даже потеря свободы после кровавой и почётной борьбы может обеспечить возрождение народа. Это семя жизни однажды даст росток нового хорошего укоренённого дерева».
У Клаузевица была в этой войне своя цель, хоть и небольшая: он пошёл воевать для того, чтобы не было стыдно перед самим собой. К тому же ещё в 1804 году Клаузевиц написал, что Наполеон в конце концов нападёт на Россию и будет разбит, и вот теперь хотел видеть это своими глазами, участвовать в этом.
Поход очень измучил его. От голода и жажды, от жары он высох, у него выпадали волосы. С этим можно было бы мириться, если бы на знания Клаузевица был в России спрос, но нет: по незнанию языка он оказался здесь никто. Сначала его определили в отряд к Петру Палену, но тот, узнав, что Клаузевиц не понимает по-русски, демонстративно вёл все разговоры с офицерами своего отряда на русском языке. Потом Клаузевиц состоял несколько дней при полковнике Толе, а затем был назначен обер-квартирмейстером 1-го кавалерийского корпуса.
В день битвы Клаузевица удивило то, что всё то время, пока он мог видеть Кутузова (а это были утренние часы сражения), полководец имел рассеянный вид и на все предложения, выслушав их, отвечал: «Хорошо, сделайте так». Вот и когда к нему приехал Толь с предложением устроить рейд в тыл Наполеона силами 1-го кавалерийского корпуса, Кутузов сказал: «Ну что ж, возьмите его»…
Уварову было велено ехать с присланным от Платова принцем Гессен-Филиппстальским, который должен был показать дорогу. Принц, кудрявый, с быстрыми глазами и с усами подковой, в свои сорок лет не утратил способности вспыхивать от некоторых идей как порох – задуманный им и Платовым рейд был, видимо, как раз из таких. (Да к тому же и воевал принц до сих пор только с турками). Уваров, круглоголовый, с буйной шевелюрой, хмуро посмотрел на принца, ещё плотнее сжал и так плотно сомкнутые губы, но – что делать, приказ! – повёл свой корпус вперёд.
Клаузевиц был теоретиком войны, взгляды которого были известны в Европе уже тогда, хотя и ограниченному количеству лиц. Клаузевиц считал, что для победы необходимо определить «центр тяжести противника» и, найдя его, обрушить на него удар как можно большей силы. Экспедиция Уварова не отвечала этому правилу по всем пунктам: и шли войска неизвестно куда, и было их так мало, что вряд ли они на что-то могли повлиять. Да ещё и приказ, полученный Уваровым, был расплывчатым: «атаковать неприятельский фланг с тем, чтобы хоть немного оттянуть его силы, атаковавшие нашу вторую армию…» – так излагал его потом сам Уваров в своем рапорте Барклаю.
1-й кавалерийский корпус имел две с половиной тысячи сабель, которые должны были присоединиться к казакам Платова, войско которого насчитывало около пяти тысяч человек.
После 11 часов утра Уваров со своей конницей переправился через Колочу выше Бородина, к которому и пошёл затем по французскому берегу. Недалеко от Бородина оказалась плотина и перед ней – неприятельская пехота. Увидев её, Уваров нахмурился ещё больше и велел атаковать.
Клаузевиц, собрав все свои знания русского языка (он кое-как выучил главные слова ещё в Вильно) попытался остановить своего начальника:
– Фьёдор Пьетрович, прикажите сначала стрелять во француз пушки…
Уваров понял, что хотел сказать этот пруссак, но отрицательно помотал головой:
– Если мы сначала будем стрелять по ним из пушек, то они уйдут за плотину. А если они сейчас дрогнут, то мы на их плечах перейдем плотину, а тогда уж нас нескоро остановят! Атаковать! Атаковать!