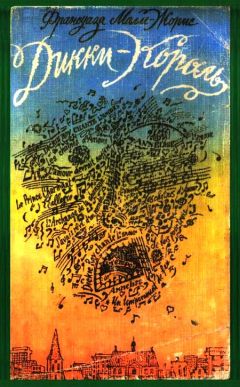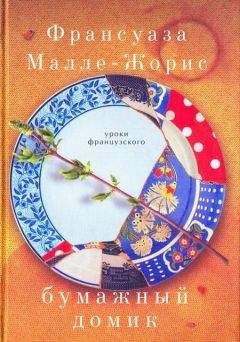— Я думала о Боге, о том, чтобы стать отшельницей на горе.
— Лжете!
Она говорит правду, однако у нее ужасное предчувствие, что она все-таки невольно лжет, что-то лжет в ней, но что, как? Элизабет смущается, у нее кружится голова, и она лишь жалко повторяет:
— Я клянусь, мама, клянусь… отшельницей на горе.
— Лжете, лжете! Я заметила, как вы покраснели, почему вы покраснели?
— Не знаю, мама, клянусь, я думала о горе, о пещерах, о святой Терезе.
Но благодаря инстинкту, выкованному страданием, унижениями, благодаря нюху хорька мать безошибочно учуяла в дочери скрытое упрямство, некий прочный стержень внутри, за который та цепляется.
— Почему вы покраснели?
— Не знаю.
— Почему?
— Я не знаю.
Она действительно не знает. Почему она вскочила, уронила книгу? Почему для ее чтения она выбрала укромный уголок в кладовой для белья? Почему резко выпрямилась с багрянцем на щеках, потревоженная, да, потревоженная, это правда, когда предавалась восхитительным мечтаниям? Почему? Именно тогда, припертая к стене, не в состоянии, не желая больше задавать себе никаких вопросов, она вдруг выкрикнула слова возмущения, какие редко срываются с ее губ:
— Вы не имеете права!
Не имеете права! А обладала ли когда-нибудь правами она, Клод де Маньер, ничем не примечательная девица, которой в течение десяти лет твердили, что она не выйдет замуж, а потом, когда она вышла за первого встречного бахвала, говорили, что ей остается лишь благодарить Бога? Выставленная напоказ как не представляющий ценности товар (на который отвлекаются только для вида, прежде чем войти внутрь магазина), десяток раз отвергнутая, взятая, наконец, покупателем, который не мог разжиться чем-нибудь получше и хочет, кроме того, чтобы превозносили его благородство, Клод должна была еще терпеть оскорбительные советы родителей, желавших ее убедить в преимуществах ее замужества.
— Ты по-прежнему распоряжаешься своим имуществом. У тебя всегда на руках этот козырь.
Козырь! То ли из-за чрезмерной тонкости чувств, то ли из-за чрезмерной гордыни Клод щедро все отдала, не требуя ничего взамен, и сегодня положение супругов было подорвано, о чем она не догадывалась. Де Ранфен был почти тронут щедростью жены. Однако, тупоголовый и необузданный по природе, хотя сам по себе и не злой, он решил отработать свой пай, прилежно удостаивая своим присутствием ложе супруги, пока та не дала понять, что и здесь считает должником скорее его, чем себя. Де Ранфен не был способен на признательность. Очень быстро он стал видеть в ней лишь холодную женщину, ущербную мать, не смогшую подарить ему сына, докучливую богомолку, наследницу, которая по смерти коварных родителей не принесла ему того, на что он рассчитывал. Его одурачили и не скрывают этого. Права! Пусть бы она только посмела их потребовать — однако, по правде говоря, Клод все это время претендовала лишь на одно право, право быть совершенной. Может, она этим злоупотребляла. Кроме того, она невольно преподала силу своего совершенства дочери, которая впервые, ставя между собой и матерью невидимый барьер кротости, берет ее руку и целует:
— Но в чем вы, мама, меня упрекаете?
В состоянии ли Клод ответить? Разбирается ли она сама толком в причинах болезненной и ревнивой нежности, которую вызывает у нее ее «единственное сокровище»?
— Вы еще дерзите! Я пожалуюсь вашему отцу, я…
Она уже не сдерживается, и хладнокровие девочки еще больше выводит ее из себя.
— О мама, — только и произносит Элизабет.
— Вы судите своего отца!
Элизабет улыбается.
Клод в отчаянии пожаловалась супругу, ведь надо же было ей кому-нибудь пожаловаться. Любовь к ней дочери уже не абсолютна! Некоторые свои мысли Элизабет скрывает от матери! Но что же ей тогда остается? Растерявшейся Клод кажется почти естественным обратиться за помощью к мужу, в котором она разуверилась; он должен знать, что она «имеет право» требовать от дочери все что угодно. И колосс, которого она впервые призвала на помощь, почти польщенный этим ее признанием в собственном бессилии, встает на сторону жены и громовым голосом делает Элизабет внушение — удивительный союз, который будоражит всех в доме, заставляет шушукаться служанок и дрожать от возмущения взбунтовавшегося ребенка. С этого дня она будет медленно, не показывая вида, отходить от матери, и лишь Клод безошибочным чутьем нелюбимого человека догадается об этом, другие же по-прежнему будут ей говорить: «Как вы счастливы, что у вас такая дочь», — а она будет соглашаться и улыбаться в ответ. Как бы мало Клод ни потеряла, ей кажется, что она потеряла все. И эта новая несправедливость постепенно растравляет последнее чувствительное место в ее сердце.
Элизабет теперь совсем одинока. Одинока рядом со своим двойником, тем образом, который тщательно формировался матерью, лишившейся дочерней любви.
— Не слишком ли порой строга с вами ваша мать? — вырывается как-то у одной из монахинь.
— Нельзя быть слишком строгой к греху.
— О дорогое дитя, вы настоящая маленькая монашенка!
Все восхищаются Элизабет, временами, правда, это восхищение вызывает двойственное чувство: разве не очевидна бывает иногда неуместность своенравной суровости Клод? Но гнев и возмущение — чувства греховные, и ребенок старается их избегать; пусть ее хвалят, похвалы не заполняют томительной пустоты в сердце Элизабет. «Дикарка! Дикарка!» Она ею осталась — гордая в своей скорби, желающая всеми силами покончить со своей отчужденностью и стыдящаяся этого своего желания.
В то время как другие играют с юлой или в классики, Элизабет смирно сидит в монастырском саду с книгой в руках. Смех, резкие, чуть более громкие, чем обычно, крики ласточек кажутся «дикарке» насмешкой над нею. Громко смеясь и глядя на нее, проходят в обнимку две подружки. «Они говорят обо мне». «Третья! Третья!» — кричит издалека сестра Памфила, потому что прогуливаться меньше, чем втроем, запрещено. Надо избегать привязанности, не так ли?
— Хотите быть третьей, Элизабет? — насмешливо спрашивает одна из девочек.
— Вы прекрасно знаете, что нет.
И при этом она сгорает от желания присоединиться к какой-нибудь компании и чтобы ее не прогнали.
— Пойдем играть, Элизабет.
— Спасибо, но мне больше хочется поразмышлять.
«Элизабет, — говорят сестры, — очень погружена в себя». Может, ее место в затворническом монастыре? Иногда, уйдя в себя посреди толпы, малышка думает, что ей удаются смирение и самоотречение, и тогда в ее сердце нисходит сказочный покой. Особенно ей нравится созерцать святое семейство: кроткая, ясная присно-дева Мария, ее безоблачное материнство, почтенный старец святой Иосиф, скорее дедушка, чем отец голого беззащитного мальчонки, которого потом распнут. Покой, однако, длится недолго. От умиротворяющего видения сознание Элизабет невольно переносится к видению Голгофы. Гвозди, раны, злобствование толпы, удар копья… ей кажется, что копье пронзает ее бок. Значит, покой, радость обманывали ее, ведь все должно было кончиться злым надругательством распятия, отрицанием любви, ее крахом, которые приковывают, зачаровывают ее. Любовь — страдание, любовь — рана. «Достаточно ли я страдаю?» — спрашивает себя Элизабет. Больше всего она, безусловно, страдает от необходимости самоуничижения. Самоуничижения, которое становится невыносимым при некоторых искушениях. Самое большое искушение для Элизабет исходит от Анны.
Десятилетняя Анна из довольно бедной семьи. Это неловкое, худое, нескладное маленькое существо в залатанном халате; сестры обучают ее из милосердия, которым они так славятся. Но Анну это, по-видимому, не угнетает. Она небогата и свыклась с этим, некрасива и мирится со своей некрасивостью; она терпит грубое обхождение, выражает благодарность, которую от нее ждут, учится, как может, и радуется чужой красоте и чужому уму, которыми обделена сама. Анна по-настоящему смиренна. Элизабет сделалась в какой-то степени ее подругой — по доброте душевной и дисциплинированности (есть ли кто непривлекательнее Анны?) и почти из презрения, ведь не могли же ее заподозрить в том, что она получает удовольствие от общения с этой уродливой девочкой с вечно изумленным взором, шаркающей походкой — девочкой, которой все гнушаются. Иногда Элизабет проводила вместе с Анной все перемены, объясняя ей урок; сестры глядели на них издали с ласковым одобрением. Никто не кричал: «Третья!», так как они были уверены, что Элизабет выполняет долг милосердия и третий тут помешает.
— Вы все поняли, Анна?
— Да, все. Вы так хорошо объясняете. Как мне повезло, что у меня такая подруга. Впрочем, — говорила Анна, — мне всегда везет.
— Неужели?
— Конечно. Монахини взяли меня исключительно из милости, вы ведь знаете, моя семья… и одна дама из Ремирмона, старая женщина, обещала нанять меня как чтицу, как только я закончу учебу, — тогда я смогу помогать матери и моя жизнь будет обеспечена. Единственно только, чтобы она не нашла меня большой уродиной.