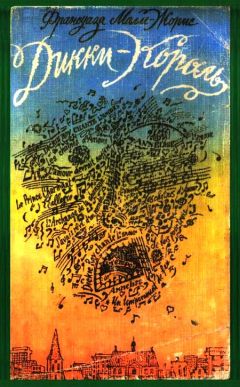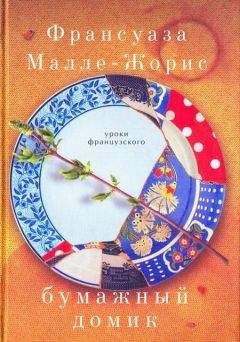Смутно, не признаваясь самой себе, она осознала также, какое несчастье она навлекла на живущего рядом с ней человека, который ругался, пил, громыхал, как комедиант; ее милостью ему ничего не осталось, как жить этой пустой шумной жизнью. Инстинкт, который она прежде всеми силами подавляла в себе, возрождался вновь, но давая уродливый плод (подобно незаконному ребенку у затянутой в корсет бедной служанки), и она начала в душе подлаживаться к мужу, позволяя себе еле заметный жест примирения, такой, что он, да и она могли сделать вид, будто не замечают его, вплоть до момента, когда по легкому сотрясению, возможно, даже неприятному, как прикосновение холодной ноги на супружеском ложе, они оба увидят, что стали сообщниками в неправедном деле.
Сближение было равнодушным, каждый потворствовал пороку другого, не разделяя и не понимая его, — двусмысленное потворство наощупь, которое должно было скрепиться кровью Элизабет, чтобы они на какое-то время могли продолжить свое бесцельное существование. Единственное, что сплотит их (и будет связывать их потом) в некий нечистый союз, — это принесение Элизабет в жертву.
В тринадцать лет Элизабет решает, что будет монахиней. Гордый взыскательный характер, неутоленная нежность, страх и стремление его преодолеть, воображение и, вероятно, призвание — все хорошее и все плохое в ней подталкивает Элизабет к этому шагу. Но было ли у нее призвание? Да знает ли кто-нибудь, что такое призвание и из каких нечистых элементов оно состоит, прежде чем таинственным образом превратится в единую золотую песчинку?
«Философский камень — Христос металлов», — говорил Парацельс за век до нашей истории. И это превращение то тут, то там по-прежнему случается, приводя к неожиданным или привычным маленьким чудесам, несмотря на то что возникает ироническое отношение к алхимикам — этим поэтам, — когда блуждаешь в непроходимых зарослях их трудов, имеющих, однако, такие естественные и такие глубокие корни. То время было богатым на события и непростым. Все шло в дело: крылья голубя, желчь убитых в пятницу жаб, летучая ртуть, нашатырь, серный спирт, — но что выражала эта удивительная смесь поэзии, природы, химии и духовности, это причудливое сочетание разнородных элементов, напоминавшее плохо собранную головоломку, если не мощное стремление к единству, тягу, подобную дующему в паруса ветру, к наконец достигнутой высшей гармонии, преображению мира в мельчайшей из его частиц, когда метаморфоза песчинки имеет такой же смысл, чуть ли не такое же значение, как и это внезапное превращение разрозненных сил, соединяющихся в человеке в единое целое — в призвание.
Зачастую призвание в тринадцати-, четырнадцати-, пятнадцатилетием возрасте вызывает улыбку, и конечно же эти хрупкие, словно созданные из серебряной паутины, постройки, схожие с узорами из инея, которые стирает солнечный луч, нередко всего лишь мираж, отпечаток мгновения, когда мысль схватывается, чтобы вскоре растаять под действием каких-либо желаний и нужд. Но если мгновение не оформляется окончательно, подобно изящной архитектуре Пиранези, а только облагораживает в сознании то, что однажды, питаемое страданиями и радостями, сможет обрести жизнь и очертания, — разве это причина, чтобы отрицать глубокое значение такого предчувствия? Призвание Элизабет в какой-то степени предполагает бегство, но это бегство к свету. Давно уже псалмы стали ей утешением, жития святых — миром, в котором жило ее воображение, одиночество — грезой о счастье! «Настоящая маленькая монашенка!» — без конца твердили Элизабет, и разве не было у нее всех оснований думать, что ей не станут чинить препоны? Однако она думает об этом с тяжелым сердцем. Разве в глазах матери не будет грехом, если Элизабет начнет утверждать свою волю? Элизабет предвидит материнское сопротивление. Предвидит она и хор монашек, поднаторевших в том, что касается инстинктивных начал души, которая воспитывается долгие годы в раскаленной добела атмосфере часовен, церковных закутков, келий, в атмосфере, способной, казалось, вызвать ожог.
«Не слишком ли строга бывает порой ваша мать?»
«Нельзя быть слишком строгой к греху».
Искусные в «perinde ac cadaver»[1] монашки одобряют ее слова. Но труп — не живое тело, а повиновение — не дар любви. Святая Тереза приказывала одной из послушниц сажать в саду овощи корнями вверх, и послушница повиновалась. Что может быть легче механического телесного послушания, послушания трупа? По существу, речь шла всего лишь об упражнении. Ни святая Тереза, ни послушница не надеялись убедить себя в том, что именно так следует сажать салат. Не без некоторого лукавства монахини радуются, обнаружив в Элизабет склонность к духовному единоборству. Они знают мадам де Ранфен, и для них немалое удовольствие (жестокое и невинное — настоящее удовольствие для монахинь) наблюдать, как благочестивая женщина попадает в расставленную ей же ловушку, подобно Балю[2], угодившему в учрежденную им самим камеру пыток. Все это, впрочем, должно послужить к вящей господней славе, так как Элизабет станет монахиней, а мадам де Ранфен освободится от чересчур однобокой привязанности к своему ребенку. Однако монахиням известно не все. Они слишком полагаются на твердость девочки, с колыбели расколотой надвое и не доверявшей самой себе. Последовавшие события поколеблят в Элизабет не веру, не дух, а тот остаток доверия к природе, изначальному животворному теплу, непосредственным воплощением которого является для человека мать. Клод де Маньер отреагировала однозначно, ничтоже сумняшеся, — казалось, она только и ждала этой минуты.
А может, она и вправду ее ждала? Сколько женщин проводят долгую томительную жизнь в ожидании мгновения, когда, пораженные в самое сердце страданием, они вдруг загорятся хотя бы один раз, чтобы умереть или достичь своего. Разница так невелика! Огонь есть огонь, горит ли мученица или колдунья. Душа, поглощенная любовью, исчезнувшая в Господе, тебе уже не принадлежит. Клод, пожелав погубить себя, с неистовством, с наслаждением от себя отреклась. Она унизила Элизабет и подняла ее на смех. Что мог знать о своем призвании ребенок, которому еще нет четырнадцати? У всех девочек ее возраста в голове одно из двух: либо замужество, либо монастырь. Это бурлит кровь, жизненные соки. Прежде столь преувеличенно стыдливая, мадам де Ранфен заговорила вдруг языком сводни. Она прибегнула к самому презренному способу подчинить себе человека — к лести: Элизабет слишком красивая, слишком одаренная, чтобы похоронить себя в монастыре. Она прекрасно выйдет замуж за молодого человека благородного происхождения или за очень богатого. Она будет купаться в роскоши, познает новые наслаждения (из этих слов ясно, что Клод стремилась скорее причинить боль, чем убедить, ведь она говорила о красоте и наслаждениях ребенку, воспитанному в убеждении, что глядеться в зеркало — уже грех). Клод не останавливалась перед тем, чтобы пустить в ход самые грязные сплетни. Монастыри, мол, не что иное, как притоны для публичных девок, распутниц и оголодавших крестьянок, довольных тем, что могут прокормить себя чтением «Отче наш».
В Дрездене осушили болото за монастырем и обнаружили там целые кучи из костей новорожденных младенцев, в Бергхайме один монах обесчестил всех девушек, посвятивших себя Богу, в Лувье одержимые бесами монашки расхаживали голыми и умоляли присутствующих оказать им «определенные услуги».
Так мать систематически наносила урон сберегавшимся, таимым в глубине души детским впечатлениям. А почему, собственно, Клод должна была щадить свою дочь? Ведь она и себя не щадила. Ее задумчивая юность, схожая с высушенной розой, маленькие скупые горести, уложенные в строгом порядке, подобно белью в шкафу, долгое холодное смирение, кисло-сладкое удовлетворение человека, выполняющего свой долг, — все было брошено в пылающий костер. Почет, завоеванный Клод в своей лишенной любви жизни, был предан огню, как солома, и от него не осталось даже пепла. Клод сетовала на бесстыдство монахинь, развратность и корыстолюбие духовенства, бесплодность веры, маленькие гнойники верующей души, сетовала вдохновенно, словно умелая плакальщица. Говорила она нараспев, с большим подъемом. Эта сорокатрехлетняя женщина в те несколько месяцев была временами по-настоящему красива.
Элизабет присутствовала на этом блистательном спектакле, где зло проявляло себя во всем великолепии, и не могла не быть им очарована. Однажды вечером, ища молитвенник, она вместо него наткнулась на светскую книгу и на миг с недоумением на нее воззрилась. Клод в исступлении преследовала Бога, как прежде преследовала дьявола, стремилась со всех сторон обложить душу ребенка и любой ценой ею завладеть. Она лишила дочь вечерней мессы, проповедей, исповеди, как когда-то лишала лакомств и развлечений. Она обязала ее надевать новые платья, делать визиты, выискивая малейшую возможность привить Элизабет чувственность, гордыню, расточительность со сноровкой, бог весть когда приобретенной за эти пятнадцать лет безмолвия и уединения: словно под приподнятым тяжелым камнем обнаружился клубок змей. Элизабет, однако, как никто, обладала твердостью духа. Ее сердце было почти разбито, невинность посрамлена, искушения не давали ей покоя, но веры и силы воли она не лишилась. По лучшему в ней прошла трещина, и этого монахини не предусмотрели.