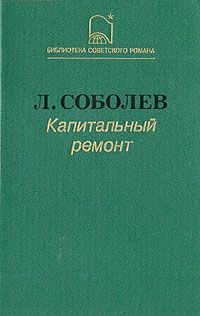— Под винтовкой настоишься, стервец! Доложу ротному!
— Это нам теперь безразлично, докладайте, — сказал Езофатов, поправляя фуражку, и отошел, умышленно вихляя руками и бедрами. При некоторой ловкости и при отсутствии унтер-офицеров своей роты можно было выпить и за другого, по соглашению с ним: пило до пятисот человек, — где же баталеру всех в лицо помнить? Поэтому Езофатов выпил в начале очереди как Венгловский, а в конце — как Езофатов. Хотелось заглушить в себе обиду и страх, рождённые в каюте мичмана Гудкова. Мичман сворачивал все дознание на бунт, и было ясно, что дело кончится судом. Вайлис сперва рассмеялся, когда Езофатов, вернувшись с дознания в кубрик, хлопнул кулаком и на вопросы кочегаров озлобленно ответил:
— В бога, в закон, в веру, в загробный мир… продал мичман Морозов! Теперь вот разбирают: «по справедливости»!.. Не надо было тогда с палубы уходить, боговы дети, ну что бы с нами сделали при всей команде, ну что? А теперь поодиночке — под суд!..
— Есть у них время тебя судить, — сказал тогда Вайлис, усмехаясь. — У тебя горячая голова, Езофатов. Если за это судить — тогда весь флот надо в тюрьму сажать.
Но и Вайлис, вернувшись потом от лейтенанта Веткина, несколько помрачнел и на расспросы ответил, как всегда, спокойно и несколько не по-русски.
— Повезли турусные колеса, геморрой их бабушке… Они говорят — мы бунтовали. Они, кажется, собираются потолковать с нами на суде о погоде и о пряниках…
Потом, до самой дудки «вино и пробу дать», кочегаров по одному вызывали — кого к лейтенанту Веткину, кого — к мичману Гудкову: дознание, как срочная угольная погрузка, велось в две струи. К обеду дознание было почти закончено.
В кают-компании обед назывался завтраком.
Огромный стол, составленный покоем, сверкал на солнце серебром, графинами и скатертью, белой и твердой, как кителя офицеров. На ней резко выделялись черными пятнами кожаные спинки придвинутых стульев, гербы на посуде и бутылка малаги у прибора старшего офицера: водки он не пил.
Юрий Ливитин, скрывая улыбкой неловкость, внимательно рассматривал рыбок в аквариуме. Отец Феоктист, тучный и багроволицый, подошел к нему, привычно играя крестом на красной муаровой ленте с тонкими желтыми полосками по краям. Такие ленты, цветов ордена св. Анны, жаловались к оружию за боевую заслугу — офицерам на темляк, а священникам (за неимением у них сабли) — к наперсному кресту.
— Рыбок рассматриваете, молодой человек? — спросил он и вздохнул, не ожидая ответа Юрия. — Сколь глубок символ рыбок на военном корабле. Мы вот с вами небось утонем в пучине, а рыбки всплывут!.. Еще возрадуются, подлецы, что в родную стихию вернулись…
— И без пояса всплывут, главное, — ехидно добавил кто-то из мичманов.
— Дерзишь отцу духовному, мичманок, — сказал отец Феоктист, благодушно погрозив пальцем. Офицеры рассмеялись, Юрий тоже, хотя ничего не понял. Все разговоры кают-компании, легкие и живые, были насыщены намеками, условными словами, как это бывает в дружной семье, где люди сжились и где каждая фраза имеет скрытый смысл, непонятный постороннему. Не мог же Юрий знать, что отец Феоктист, панически боясь аварий, на каждый поход надевал под рясу специально купленный за границей спасательный пояс, поставляя этим пищу мичманским остротам.
Батюшка, откинув широкие рукава рясы, ухватил левой рукой щепоть корму, а правой — рюмку водки, заранее приготовленную вестовыми на колонке из туфа, и постучал рюмкой по стеклу. Рыбки, ударяя бесшумно хвостами, подплыли к нему и замерли полукругом, уставившись своими невыразительными круглыми глазами на рюмку.
— Будьте здоровы! — пожелал батюшка рыбкам, высыпая корм в воду, и, чокнувшись с аквариумом, опрокинул в рот рюмку. Рыбки ринулись к медленно тонувшему корму, а отец Феоктист поставил рюмку на место и закусил крохотным зернышком.
— Всякое животное свое потребляет, — сказал он наставительно. — Овому пища требуется твердая, кто в воде, овому жидкая, кто на суше… Сие знаменует гармонию природы.
В кают-компанию быстро вошел старший офицер, на ходу оглядывая стол. Усатая рожа буфетчика скрылась в окошке, вестовые бросились отодвигать стулья, офицеры поднялись с кресел, направляясь к своим местам.
— Прошу к столу, господа! — сказал Шиянов, став у своего места в середине стола, и наклонил голову. Отец Феоктист торопливо осенил стол мелким крестом (причем, так как его место было против старшего офицера, то благословение пришлось на бутылку малаги) и, не останавливая движения протянутой руки, тотчас взял салфетку и заправил её за воротник рясы, закрыв ею всю грудь.
Офицеры сели. Белые рукава кителей одновременно блеснули над столом, и все руки сделали один и тот же привычный жест; согнулись в кисти, ударив безымянным и средним пальцем по уголкам слишком далеко вылезших манжет, потом так же одновременно вынули салфетки из колец и бросили их на колени, после чего протянулись, уж вразнобой, к графинам, к хлебу, к закускам.
Юрий, успев за вчерашний обед кое-чему научиться, положил салфетку на колени (грудь завешивал только батюшка) и без особого страха разобрался в разнокалиберных вилках у своего прибора и в закусках перед ним. Вчера он вынужден был краснеть и отказываться от закусок: демократическое воспитание в корпусе не обучает тонкостям настоящего светского стола, а дома ели вкусно, но попросту.
— Приветствуем гостя, салют! — сказал лейтенант Греве, подымая рюмку. — Скооль!
Юрий споловинил рюмку: это он тоже подметил вчера. На каждом корабле была своя манера пить водку, и по ней можно было узнать, кто где плавает: на «Генералиссимусе» рюмку пили в два приема, на «Цесаревиче» её пили, как ликер, не закидывая голову и медленно цедя сквозь зубы; на минной дивизии, наоборот, — утрируя грубоватость настоящих моряков, опрокидывали голову и хлопали рюмку целиком, делая после этого короткий выдох «г-ха!», и прибавляли, морщась, обращаясь к соседу: «Никогда не пей, — гадость!» Закусывали тоже по-разному: на крейсерах — мгновенно, на линкорах неторопливо, а на миноносцах пили под запах, нюхая корочку хлеба.
Над столом стоял сдержанный одновременный говор. Мичманский конец был мальчишески шумен, лейтенантский — спокойно остроумен, средний, господский, где около Шиянова и против него сидели старшие специалисты, врач и батюшка, — солиден. Разговор перекатывался по столу, как блестящий пустотелый легкий шар, вскидываясь высоко вверх от взрывов смеха, опадая при смене блюд, задерживаясь ненадолго в одном конце стола, чтобы от меткого удара нужной реплики перелететь на другой. Юрий почти не принимал в нем участия: улыбаясь и поворачивая голову, он следил за полетом этого блестящего шара, который одновременно отражал разнообразные вещи.
Крутясь и перекатываясь над столом, он внезапно показывал алжирский кабачок, где черная борода старшего штурмана ошибочно наградила его титулом шейха. Вдруг просверкав адмиральской эполетой недавно произведенного прежнего командира «Генералиссимуса», шар отражал глубокие синие воды Индийского океана (батюшка вспомнил поход второй эскадры)[14] — и сразу же вода отхлынула, обнажая стройные ножки шведской балерины, приехавшей на гастроли в Гельсингфорс. Прокатился целый дождь крупных золотых монет её месячного содержания, оплачиваемого Штокманом, владельцем огромного магазина, и скрылся в отрезках синей диагонали: заспорили, где лучше покупать материю на китель — у Штокмана или в Петербурге? Материю разорвала морда бульдога лейтенанта Будагова с карандашом в зубах. Леди деловито перегрызала карандаши на столе один за другим, отмщая хозяину недавнюю порку…
— За что, изверг? Несчастная Леди!
— Не жалейте, господа! Она мне испортила породу: молниеносный роман с лохматым Пираткой под первой башней. Вахтенный, подлец, не уследил!.. А я-то обещал мадам Беклемишевой первого щенка!..
Шар взлетел кверху, крутясь в общем смехе, и перелетел на мичманский конец: тему о собаках мичмана оживленно подхватили.
На лейтенантском конце занялись рыбой. Греве налил Юрию третью рюмку.
— Довольно, пожалуй, Юрик, — сказал Николай, чуть нахмурясь.
— Пустяки, — ответил Юрий небрежно.
Моряки должны уметь пить, и, хотя голова уже кружилась, Юрий споловинил рюмку, поставил её на стол и, гордясь, улыбаясь и обожая всех, обвел глазами стол. Курносый молодой мичман на том конце стола был бледен, мрачен и явно пьян. Юрий поморщился: эх, мичмана, пить не умеют!
— Кто это там? — спросил он тихо у брата, показывая глазами.
Ливитин вгляделся.
— Мичман Морозов, механик, а что?
— Что за трагическая скорбь? Влюблен?
— Не знаю, что с ним… Морозинька, ау! Что мы губки надули?
Морозов поднял на него глаза — они были уже тупы и малоподвижны, — и потянулся к графину. Но, вероятно, старший офицер обратил на него внимание раньше Юрия; он мигнул вестовым, и рука в нитяной перчатке ловко перехватила графин (водку от мичманов убирали, когда старший офицер находил порцию достаточной; мичмана по молодости лет всегда были неумеренны).