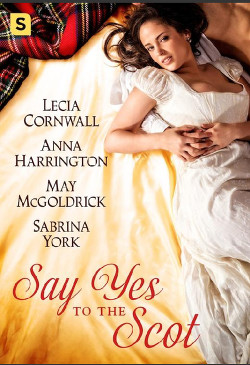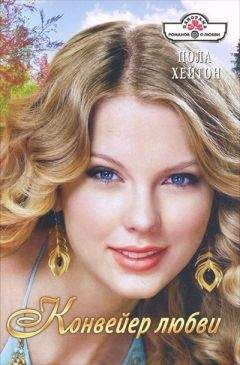допытываюсь я.
Эван учится в Кинском университете, но все, что мне известно, – это то, что он родился в Саскачеване.
– Здесь, – говорит он.
– Здесь – это в Кине? – Вспоминаю школьные коридоры и автобусы, но лицо Эвана Германа никак не всплывает.
Переехал в Кин в четвертом классе, объясняет он, но в шестом перевелся в маленькую частную школу в близлежащем городе, куда обычно отправляли трудных детей из богатых семей, а также бедных юных дарований; можно предположить, что Эван из последней категории. Кинский университет весьма достойный, но едва ли может тягаться с лигой плюща. В моем представлении Эван мог бы отправиться в любой университет, какой бы ни выбрал, мог бы даже получить грант. Так почему он решил остаться здесь?
– Нас осталось всего двое, – говорит он.
– Вы с мамой?
Он сжимает челюсть, у него на виске пульсирует вена.
– Почитаем еще? – говорит он будто бы сдавленно и встает.
Я ничего не понимаю. Мы ведь только что шутили и смеялись. Теперь тот Эван исчез, вернулся Эван, с которым я встретилась в кофейне. Я что-то испортила, не понимаю что.
– Почитаем, – говорю я, но теперь это не так весело.
14.6.17
Мы как мыши в змеиной яме. Куда ни глянь – вокруг солдаты. Грубые мужчины в глупых острых козырьках с пришитыми звездами. Вчера слышали выстрелы. Мама сказала, что стреляли по козам, бегающим по парку.
Когда только стражники приехали, отдавали папе честь. Теперь они грубые и холодные, отказываются смотреть ему в глаза и пожимать руку. Папа вежлив, но, когда никто не слышит, даже он говорит, что эти люди неопрятные и невоспитанные.
Это не знакомые нам солдаты, не те часовые, что патрулировали дворец и парки и всегда были рады прервать свою работу, чтобы подать Алексею грушу; не статные мужчины в блестящих сапогах и красивых красных штанах, которые выстраивались на улицах в дни парадов; не розовощекие моряки, работающие на яхте и заигрывающие с Ольгой и Татьяной. Нет, у этих мужчин гнилые языки и сальные взгляды.
Солдаты, что лечились в лазарете Царского Села, были людьми чести. Они называли нас «сестрами Романовыми». Конечно, мы с Марией были еще малы для медсестер – и так завидовали красным крестам Ольги и Татьяны, – но изо всех сил старались помочь этим героям, облегчить их страдания. Мы приходили в госпиталь почти каждый день. Их любимыми играми были шашки и шахматы. Иногда мы им читали. Некоторые лишились пальцев или рук – для них мы под диктовку записывали письма родным и близким. Мы взбивали подушки, обматывали раны и штопали носки. Лежа в теплой кровати, все, о чем я могла думать, – это об их жертве. Как-то я сказала папе, что хотела бы иметь хоть крупицу их храбрости. Он улыбнулся.
– Ты храбрая по-своему, Настя, – сказал он.
Я пытаюсь быть храброй, но получается иначе.
Если говорить начистоту – а где можно так говорить, если не в личном дневнике, – есть один солдат, который занимает мои воспоминания о том времени. Я никогда не называла его имени вне стен госпиталя, боясь, что сестры будут надо мной смеяться или – еще хуже – расскажут маме. Я сохранила эту тайну даже от тебя, дорогой дневник.
Его звали Илья Иванович. Ему было восемнадцать – на четыре года больше, чем мне. Но все равно слишком юн для залитого кровью поля боя. Он родился в деревне у медных шахт неподалеку от Екатеринбурга и получил ранение под Луцком. Осколок бомбы врезался ему в левую ногу.
Он был высоким – ноги едва ли не свисали с койки – и худым, хотя я подозреваю, что в последнем виновато многолетнее недоедание. Его глаза, расположенные далеко друг от друга, были небольшими, но как они сияли, когда он улыбался! Будто подсвечивались изнутри. Карие, с капелькой зеленого. Но больше всего мне нравился его нос, длинный и прямой, с маленькой, но заметной ямочкой на кончике. Таких носов я больше не видела. Странно, но мне очень хотелось легонько дотронуться до него мизинцем, – как глупо!
Я до сих пор помню наши первые слова друг другу. Мы с Марией пришли в лазарет после завтрака. Как всегда, прошлись через койки, здороваясь с каждым солдатом, благодаря его за принесенную жертву. Я дошла до койки Ильи.
– Матушка Россия благодарна вам за службу, – сказала я, как нас научили.
– Вы говорите от лица Матушки России? – сказал мне юноша.
Наши взгляды встретились. В его глазах я увидела бездонный колодец отчаяния, но в голосе явно звучал вызов.
Тогда меня поразила такая дерзость. Я великая княжна, но он говорил со мной на равных. Было в этом что-то, возбуждающее интерес. Должно быть, я покраснела, потому что он тут же попросил прощения за такую фамильярность.
Это была наша первая встреча. Илья попросил меня зайти к нему чуть позже и помочь написать несколько писем; его руки были целы, но мешали головная боль и мутное зрение. Я пришла к нему на следующий день, мы разговорились, часы казались минутами, но потом за мной пришла Мария.
Честность Ильи приятно меня удивляла. Со мной никто раньше не говорил так открыто. Илья рассказал, что происходит у него в деревне и в других, похожих на нее, рассказал об отце, работающем по двенадцать часов в день под землей в кромешной тьме, рискуя попасть под обвал или взорваться, при этом не получая достаточно денег, чтобы прокормить семью. Иногда у них на целую неделю были только буханка хлеба и кастрюля супа. За год до того, как Илья с братом пошли на службу, их сестра скончалась от оспы.
– У них есть все, – говорил Илья о хозяевах шахты. – А у нас – ничего.
Шепотом Илья рассказывал о недовольстве, сначала тех, что у него дома, потом – в лазарете.
– Народ устал. Европа оставляет нас позади, а Россия все равно отказывается осовремениваться.
– Вы хотите сказать «император отказывается».
Он не испугался моей провокации.
– Аристократия тоже, да.
У меня в животе разгорался костер, по жилам тек огонь вместо крови. Он ведь говорил о моем отце.
– Если ничего не меняется, не может быть прогресса, – сказал Илья.
– Все это – воля Божья, а не моего отца, – напомнила я ему.
– Наступил новый век. – Его добрые, спокойные глаза смотрели в мои. – Не все верят в абсолютную власть монарха.
Говорить такое было опасно. Мне хотелось ударить Илью, чтобы он взял слова назад и проглотил их. Он даже не