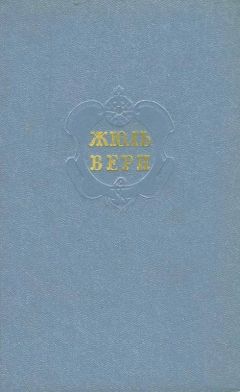будто читаю Библию. Послушно бегу в подвал при малейшей тревоге и прячусь, когда немец-коротышка заходит в лавку. Но иногда бессонной ночью сердце вдруг заколотится, как оркестр ударных инструментов. В ушах и в висках оглушительно звенят медные тарелки. На миг представляется, что завтра я проснусь в Монпелье. Зайду на кухню, а там ты готовишь завтрак. Такое бывает, только когда я в полусне.
Фромюль,
2 ноября 1944
Дни перетекают в ночи и тают. Я капитан корабля без руля. Прищурившись, плыву в тумане. Осень. Солнце скрылось, но раскидало золото повсюду, особенно по деревьям. А ветер возомнил себя художником и стряхивает листья.
Так странно думать о прошлой осени. Ты была совершенно живая. Мама как мама, и казалось, так будет еще лет сто. Так странно думать, что мои дети, если когда-нибудь они появятся, не будут тебя знать.
Смотрю на Марлен Дитрих – она, я уверен, меня понимает. Особенно когда вот так склоняет набок головку.
– Прям Александр Македонский! – говорит Эмиль.
Но стоит мне в это поверить, как она тут же гадит мне на тетрадь или срыгивает горох мне в постель.
Иногда я с ней разговариваю и почесываю ее пальцем между выпученных глаз. Она засыпает, и я чувствую себя хорошим отцом. От этого чехарда в голове утихает и лавина вопросов не грозит обрушиться.
Что-то Эмиль перестал дразнить войну. Никаких больше ночных вылазок на велосипеде в длиннющем плаще, никакого гренадина и никакой Розали. А днем мне страшно. И я перестал подслушивать под дверями.
Из моего окна виден немецкий грузовик. Раньше он приезжал время от времени, а теперь стоит тут каждый день.
Никуда не делась работа в курятнике. Я научился кричать Pipélé, kom, kom! почти без акцента. Еще побаиваюсь чокнутого петуха, “фаната лодыжек”, как говорит Эмиль, но держу себя в руках. Теперь это лучшие минуты за целый день. Я придумал имена каждой курице и наловчился спасать яйца. Прячу их в подвале. Там прохладно и безопасно, немцы не конфискуют. Хоть чем-то я могу гордиться.
Фромюль,
7 ноября 1944
– Хочешь, пойдем сегодня на чердак? Если не будет бомбежки, никому ничего не скажем да и сходим.
Я побагровел, как помидорина, которую забыли на грядке.
Дядя Эмиль пустил в ход весь свой арсенал: подмигивал мне, пихал локтем, так что в конце концов меня развеселил. А вместе с весельем проснулось желание снова пойти на чердак.
От одного предвкушения день проходит в ускоренном темпе. Я ничегошеньки не слышу из объяснений тети Луизы, но развиваю актерский талант. Она уверена, что я внимательно слушаю.
Она напоминает мою помпиньянскую учительницу младших классов, которая раздавала нам билетики за хорошее поведение. Тем, у кого набиралось двадцать штук, она ставила отличную оценку, которая засчитывалась, когда выводили средний балл в конце года. Такую отметку получали паиньки и подлизы. Тети-Луизин фокус с раем устроен точно так же. Чтобы его заслужить, надо усердно молиться, читать Библию и делать кучу разных вещей, часть которых я бы и сам охотно делал, но “грубое догматическое насилие”, как говорит Эмиль, отбивает всякое желание. Не люблю, когда мне как последнему кретину вбивают в башку, что хорошо, а что плохо. Даже если по сути я согласен, мне не нравится такая манера.
На что мне билетики для входа в рай? Мне бы билетик для сегодняшней жизни. Для входа в лес и на чердак.
Я вообще не понимаю, почему люди верят в эту выдумку и зачем она им. Рай нужен здесь и теперь. Особенно когда идет война. И чтобы там, помимо всего прочего, были птицы, звезды, футбол. Как можно верить, что Бог, извини за выражение, инспектирует мозги и ставит крестики в книге учета дурных дел?
Это же Бог! Он, если я верно понял, создал жизнь. И он будет тратить время на какие-то канцелярские проверки? Когда мог бы летать вместе с птицами, изобретать всякие прикольные штуки или писать книгу самых лучших своих шуток. Вот это был бы подарок для человечества! То-то бы все – и верующие, и неверующие – славно повеселились.
Так нет же! Чувак станет копаться в головах у людей и сортировать мертвых: “Так… у этого я насчитал 98 432 дурные мысли и 98 431 хорошую. Очень жаль, но вам дорога в ад, для рая одной мысли не хватило”. Не верю я в такое. А ты, мама, веришь?
Разве что у него есть ангелы-доносчики, которые ему докладывают, например, что я слишком часто думаю о сосках Сильвии, хотя мне в моем возрасте положено думать о футболе.
Не беспокойся, о футболе я тоже думаю. Но что правда, то правда: минутное прикосновение к моей спине этих двух горячих точек действует лучше, чем двухчасовая морская ванна.
– Я хочу жить сейчас. А не когда-нибудь потом, на небе, даже если все это правда…
– У тебя здоровая аллергия на догмы! – говорит Эмиль за ужином.
Тьфу ты, опять я думаю вслух!
– Твое влияние! – отзывается тетя Луиза.
– Просто парню надо гулять! Разминать ноги. Валять дурака. Влюбляться и тому подобное.
– По-твоему, разминать ноги – это лучше, чем верить в Бога?
– Я хочу, чтобы он сам выбирал, что лучше. И его мать хотела бы того же.
– Лизетта была верующей.
– И что же? Разговор не об этом. Думаешь, она стала бы его к чему-то принуждать?
Мне хочется сказать, что я должен был ходить в церковь и все такое, но когда я отказался петь в хоре, мама меня не ругала и ничего не сказала. Но вмешиваться в разговор неудобно. Поэтому я слушаю и мотаю на ус.
– Если бы мальчик верил в Бога, он бы знал, что его мама и сестричка живут на небе.
Вечно тетя Луиза говорит обо мне, как будто меня тут нет. Меня это бесит. Надо же, как она верит в эти свои небеса!
– Тебе не кажется, что и тебе лучше было бы самой выбирать, о чем мечтать, а, Луиза? Ну, попробуй разочек. Вспомни, как ты сама была ребенком, – ты помнишь, как была ребенком? Разве ты сразу поверила в Бога?
– Мне хорошо с моей верой. Иисус в моем сердце, и ничего другого мне не надо.
Странно видеть, как спокойно и мило они разговаривают.
– И я бы хотела, чтобы вера дала мальчику покой, как дала его мне.
– Ты бы хотела, отлично! Но ты не можешь принуждать его верить. Я бы хотел, чтобы он стал фермером, но не стану его тут