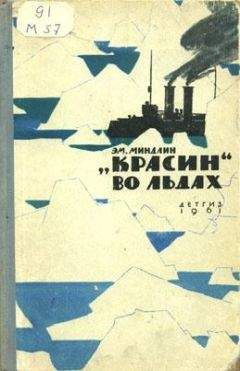– Как сам?
– А пришел, никто его не тянул. Наверное, рядом другие ходят, потому что ведет себя смело.
– Может, не к вам шел?
– А теперь уже все равно.
Дежнев остро взглянул, крикнул:
– Артюшка! Поднимай людей!
– Всем идти? – выглянул из урасы Солдат.
– Нет, пойду я. И Гришка пойдет. А вы сидите и слушайте. Ударит пищаль за мысом, тогда решайте.
Кивнул Лоскуту:
– Идем.
Шли в темноте.
Ноги зарывались в галечник, ломалась под сапогами обсохшая морская трава.
Свет увидели издали. Дров в лагере Двинянина не жалели, не зимовать: костры за мысом поднимались высоко, весело. У крайнего наклонился над котлом зверовидный Фрол. С ним Тюнька Сусик. С ними Анисим Костромин в окладистой бороде. Черпали из котла деревянными ложками. Увидев Дежнева, оглянулись.
Юшка Двинянин сидел на удобном пне, как в хитром кресле.
Кафтан распахнут, шапка на коленях, в руках нож с куском мяса, глаза дичат. Князец Чекчой у ног. Сидел на холодном галечнике. А руки для осторожности связаны на животе.
Гришка вдруг остро понял любопытство Чекчоя.
Вот жил непричесанный, ловил в сендухе диких олешков, зверя стрелял, пел долгие песни, собирал на корге богатый зуб, резал из того зуба болванчиков. Потом пришли русские, выстрелили один глаз, посадили в казенку: пусть родимцы несут ясак, вы государю задолжали за многие прошлые годы. А он не знал, что под царем живет, что царю должен. Ко всему, зверь ушел, рыба ушла. Видно, все живое проиграл в тот год дед сендушный. Ничего людям не оставил, кроме гнуса и голода. Когда родимцы, упав от голода, перестали уже шевелиться, увидел Чекчой молодого оленного быка. Тот случайно забрел на стойбище, шевелил ноздрями, пытаясь понять, почему от людей пахнет по-другому, не так, как прежде? Вот повезло Чекчою: убил быка. Сварил густой бульон, стал давать людям по ложке. Целую неделю выздоравливали.
Помаленьку выздоровели.
Чекчой и сейчас, как всегда, вертел черной головой.
Радовался кострам, свету. Даже Двинянин изумленно кивнул:
– Ну, прямо не человек, Семейка. Прямо не князец, а ширкун какой-то.
Остановясь в трех шагах, Дежнев невольно возвысился над Двиняниным. Некоторые казаки, не облизав, ложки побросали. Впервые пришел Дежнев в их лагерь, дивились. Только Юшка, откусив от дымящегося мяса, отвернулся. Этим как бы подчеркнул незначительность Семейки.
– Вернемся в Нижний, всех созову, – видно, продолжал какой-то прерванный появлением Дежнева разговор. – Сядем в круг в уютном дому вдовы десятника Коновалова. Он обширен, все разместятся.
Весело вздохнул:
– Вдова – женщина умелая. Устроит стол, богатый. Будет на столе заяц поджаренный в шкварках, голова свиная цельная под чесноком, потрох лебяжий с шафраном, шейка опять же лебяжья, а по шейке тапешки, тапешки – калачики в масле, пряжены ломтями. А для Сусика отдельно – утка верченая, если раньше не пробовал. Опять же, зайцы в рассоле.
Неторопливо поднял голову:
– Семейка? Чего пришел?
– Своего аманата ищу.
С усмешкой откинулся на удобные корни:
– Вот, правда, Семейка, почему так? Я как что ни найду на реке, так все твое.
Ухмыльнулся:
– Может, князец и твой, только ты не сумел его сохранить, значит, потерял на него право.
Весело предложил:
– Купи!
– Кого? Чекчоя?
– Ну да. Почему нет?
Лихо подкрутил усы, продолжая насмешничать:
– Смотри, это не простой ходынец. Это князец полярный. Бляха на нем. Большая, серебряная. Хочешь, продам вместе с бляхой? Только это будет дороже. Зато ты, Семейка, будешь вечерами говорить с иноземцем. Ты ведь любишь с иноземцами говорить, да? Считай, повезло тебе.
Выдохнул изумленно:
– Ну, не князец, а птица короконодо! Тебе он многое расскажет, – кивнул. – Ты ведь горазд болтать. Может, выведет тебя на серебро. Ты торопиться не любишь, может, правда, выведет тебя на серебро. На Руси, сам знаешь, с белым металлом плохо – перечеканивают в деньгу гамбургские рейхсталлеры.
Сплюнул изумленно:
– Ну, правда, купи! Устал я от иноземца. Всего два часа прошло, а я уже устал. Я ему слово, а он в ответ пять. Я ему пять, а он в ответ десять. И руками машет. Вот пришлось связать руки.
Весело выдохнул:
– Купи!
– Божье ль то дело, Юшко?
– Да Божье, Божье! – отмахнулся Двинянин.
Ничего не боялся. Видел, что своих больше. Прищурился:
– Ну, правда, почему так получается, Семейка? Что ни найду на реке, все почему-то оказывается твоим. И корга – твоя, и зверь, и рыба в реке. И Луна в небе, а теперь аманат. Ты скоро весь край назовешь своим, откажешь государю, а? Не боишься? – Погрозил длинным пальцем: – Ты закон нарушал, давал железо дикующим.
Презрительно ткнул ногой князца:
– Зачем весь в серебре?
Чекчой охотно повернул круглую голову, моргнул живым глазом. Залопотал певуче, живо, без всякой обиды. Получалось, что вот он связан, а обиды в нем все равно нет.
– Давал тебе Семейка железо?
Чекчой закивал:
– Ножи!
– Слышишь, Семейка? – презрительно прищурился Двинянин. – Государевым указом запрещено давать иноземцам железо.
Но не выдержал:
– Да ладно. Купи!
Гришка стоял за спиной Дежнева. Незаметно скашивал глаз на зверовидного Фрола. Думал, держа руку на сабельке: все тут полны сомнениями. Каждое слово тут с некоторых пор кажется обманным. Но ведь все равно, не могут русские поднять руку на русских. Мало ли что вскочил Двинянин, зло притянул Дежнева длинной рукой за отворот кафтана:
– Иноземцам даешь железо!
Потянулся к ножу, болтающемуся на поясе, но дикующий вдруг вскочил, подпрыгнул нелепо. Закружился на тоненьких несвязанных ножках, заклекотал по своему с большим чувством.
– Он что, с ума съехал?
– Лочил нэдэй, говорит, – вырвался из рук Двинянина Дежнев. – Говорит, что огни горят.
Но Двинянин уже сам повернул голову в сторону невидимых во тьме гор.
И казаки, прихватывая руками шапки, повернулись.
Огни… Откуда только взялись?
Пять…
Десять…
Пятнадцать…
Значит, со всех сторон пришли дикующие, понял Лоскут. Значит, сговорился Семейка с Чекчоем, и тот привел ходынцев, чтобы напугать Юшку.
Ганг-ганг,
кли-кли…
Ганг-ганг,
кли-кли…
Странные голоса.
Звуки, сглаженные расстоянием.
Ымы-шайдэ-гомыку…
Ымы-шайдэ-гомыку…
Двинянин замер, не дотянувшись рукой до ножа.
Бывал в разных местах, знал, как могут пугать дикующие.
А Гришка вспомнил, как хмуро тянул что-то подобное на реке Большой собачьей загадочный вож Христофор Шохин, потом несчастливо зарезанный писаными рожами. Сам страшный, лицо сдвинуто набок. Ни с того, ни с сего вот так начинал мычать, некоторые слова прорывались: «Ымы-шайдэ… Ымы-шайдэ…» Спросишь: «О чем это?» – пожмет плечами: «Не знаю».
Может, правда, не знал. Да и как знать? Не русские, дикующие так поют. Обнявшись прыгают у костров, всхрапывают, как молодые олешки.
Пяткой в пятку…
Руки вверх…
Вскидывают руки…
Не жалеют высокого огня…
– Неужто коряки?
Дежнев знающе усмехнулся:
– Ходынцы.
Чекчой расслышал, радостно затряс головой:
– Ходынцы!
Радостно пояснил:
– Родимцы пришли!
Стал и дальше объяснять, двигая перед собой связанными руками: вот, мол, пришли родимцы. Крепкие воины! Бьют птицу в лет, ловят руками любого зверя. Гусиным шагом идут вокруг высоких костров, взмахивают руками.
Хвастливо заводил под лоб отдельный горячо вспыхивающий глаз.
Если, пояснил, захочет, то родимцы зажгут всю гору, так много пришло. Подпрыгивая, сообщил: «За ними другие идут. Ясак несут. Богатые подарки получать буду».
– Ясак? – изумился Двинянин, с тревогой озирая ночные огни, прислушиваясь к каждому звуку. – Кому?
Одноглазый князец радостно объяснил:
– Семейке!
Так же радостно объяснил: у него с Семейкой мир. Ему Семейка раньше делал только хорошее. Для ясности связанными руками указал на Дежнева: вот как Семейку любят. Несут ему ясак. Много задолжали государю за годы, пока не шли русские в сендуху. Теперь будут жить в мире. Теперь у него, у Чекчоя, медные котлы будут, железные колокольчики будут, ножи железные будут.
– У меня, – сказал, – много такого будет!
Гришка Лоскут усмехнулся. Ишь, оторопел Двинянин. Считал, наверное, что сломал прикащика Погычи. Считал, наверное, что, уходя, разворошил осиное гнездо, оставил Дежнева лицом к лицу с разъяренными ходынцами. А они как раз к Дежневу и пришли. И князец Энканчан, наверное, с ними.
Покосился на растерянного Фрола.