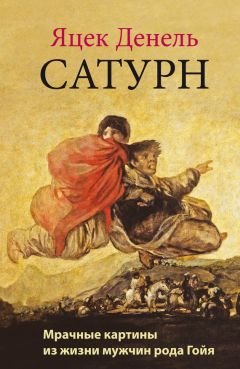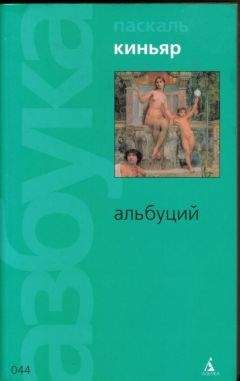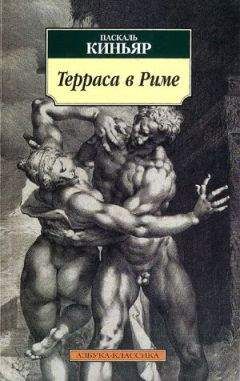А ведь случалось, даже в более поздние годы, что мы ругались. До сего времени не понимаю, как это возможно, чтобы двоих людей – хоть и живущих под одной крышей, но в доме настолько большом, что за день они могут ни разу не пересечься, ни разу не взглянуть друг другу в глаза, – так и тянуло к ненужным перебранкам. Тем более что со временем все высказанные с такой горечью слова, все причины претензий и правота другой стороны исчезают, рассыпаются в прах, предаются забвению; от перебранки не остается ничего, ровным счетом ничего, если не считать осадка, той вонючей тины, что оседает в уголках так называемой души. Но то, что после всех ссор засело у меня в памяти, что въелось в нее, это как раз та сцена, свидетелем которой я бы не хотел оказаться, – последние минуты жизни отца и его последние слова. Многие годы Гумерсинда щадила меня, не проронила ни слова, какое могло бы навести меня на след, но однажды не выдержала – а что самое смешное, мы не грызлись из-за чего-то важного… но разве самые болезненные выяснения отношений не касаются пустяков? Разве не реагируем мы самыми гнусными оскорблениями, разве не наносим самые болезненные удары из-за каких-то мелочей: разбитой рюмки, пятна на сюртуке, опоздания к ужину? Вот и тут все разгорелось из-за ерунды, то ли из-за оторванной пуговицы, то ли из-за того, что я забыл выслать лист с благодарностями – и вдруг в одну секунду двое цивилизованных стареющих людей превратились в бешеных мулов, пустивших в дело свои большие, как лопаты, зубищи; и даже если нас отделял друг от друга длинный стол, даже если ни один из нас не поднял руку на другого, если все еще была на нас хорошо скроенная, застегнутая под самую шею одежда, то в действительности мы оказались теми взбесившимися мулами, что кусают до крови и рычат от боли и ярости, – мы обзывали друг друга отвратительными словами; а ведь если кто-то хочет ранить как можно больнее, то бьет либо по еще не исчезнувшим синякам, либо туда, где не ожидаешь удара; и, когда она уже нанесла удар по всем тем местам, куда любил бить мой отец, когда я услышал, что я – разжиревший бездельник, неудачник, жалкий куль с дерьмом, посмешище всего города, откормленный, кастрированный каплун, бездарь, художничек, не написавший ни одной картины, когда она уже вскрыла все мои раны, превращавшиеся одна за другой в большие кровоточащие розы, вот тогда-то и выкрикнула, как бы нанося шпагой окончательный удар: «Придурок, даже не знаешь, какие были последние слова твоего отца!»
Была права, я не знал. Меня там не было, не было меня там с ними в Бордо, я в то время расхаживал по Мадриду и ждал того деликатного толчка интуиции, который мне подскажет: «Все, Хавьер, это конец. Можешь ехать». Она смотрела на меня с внезапным остервенением в глазах, с побелевшими губами, с разлившимся по всему лицу румянцем, будто полдня вынимала хлебы из печи, а тоненькая прядка, выбившаяся из тщательно уложенной прически, как черная змейка, приклеилась к ее вспотевшему лбу. «Не знаю, – ответил я, пытаясь успокоиться, в надежде, что и она остынет; но она еще сильнее сжала губы. – Твоя правда, не знаю». Она продолжала стоять, вся пунцовая, не проронив ни слова, будто учитель, ждущий ответа от самого тупого ученика, чтобы потом его высмеять. «Леокадия?» – спросил я неуверенно; она покачала головой. «Не знаю… Альба?» Тоже ошибка. Значит, было хуже всего: «Где эта чертова задница Хавьер?»
«Нет, мой муженек, – процедила она сквозь зубы, а потом отчеканила: – Последние слова твоего отца… Нет, не скажу. Язык не повернется».
Говорит Мариано
Мадрид – уж такой, какой есть, но за городом, поблизости от Мансанареса, было еще хуже. Другой раз за весь день только и разговоров что с мухами да со старым погонщиком мула, который с ленцой тащился домой, к женушке и своей похлебке. Я хотел что-то сделать с огородом, но этот бездельник Фелипе скорее запоет соловьем, чем по-настоящему возьмется за работу; только и знай, что хнычет: а то у него в костях стреляет, а то тошнит, а то кишки докучают или из носа капает… Будь у английских лордов такие огороднички, до сих пор они бы обитали в диких лесах. А будь у них еще и такие повара – питались бы сырым мясом и корешками. А столько вложенного труда, столько прожектов, идей, возникающих внезапно среди ночи: длинные каскады струящейся воды, романтические руины с рухнувшей на землю статуей… и все зря, зря и зря.
Приезжали мы туда все реже и реже – в основном чтобы помузицировать с друзьями в музыкальной зале. Привозили из города корзины со снедью и, случалось, играли до самого утра, а потом – по экипажам! И вперед, к цивилизации!
В конце концов я сказал Брюхану, дескать, сыт по горло этой развалиной и либо продам ее, либо, если он хочет, перепишу на него – как-никак, если б дед, опасаясь конфискации, не отдал ее мне, она бы досталась Брюхану вместе со всем остальным наследством.
«Если так – могу взять, – сказал он, – возьму, конечно». И сразу же после обеда сложил вещички и весь из себя такой сгорбленный сел в повозку и велел ехать к Мансанаресу, за Сеговийский мост. Откуда только прыть?
Говорит Хавьер
Мне казалось, что от него уже ничего не осталось; мазню на стенах мы отбили вместе со штукатуркой, старье Фелипе сжигал в огороде. А все же как живучи предметы и сколько их! Что за необузданная стихия – в углах, чуланах, на чердачке, всюду засилье барахла старого хрена.
Странное ощущение, когда берешь в руки все те инструменты, которые он в свое время не вывез с собой во Францию: кисти с обгрызенными ручками и повыщипанными волосками, на одних краска засохла напрочь, другие совершенно лысые; задубевшие носовые платки и тряпицы, всевозможные деревяшки и скребки, которыми он создавал испещренную бороздками фактуру полотна; чашечки с поотбитыми боками для смешивания красок, сплошь в разноцветных пятнах (розоватый беж, индиго, буро-красный, телесный, цвета небесной лазури и старого сюртука), и бутылочки с остатками чего-то, что когда-то, возможно, и годилось для живописи, но уже давным-давно прогоркло, заплесневело или высохло, превратясь в камень. Единственно пигменты сохранили свою минеральную чистоту, перетертые в порошок, они светились из-под слоя пыли первозданным цветом; и только лишь они, нетронутые, целомудренные, могли еще на что-то сгодиться. Я открывал ящик за ящиком, рылся в дальних уголках (нашел целый комплект досок для Disparates[92], над которыми он работал перед выездом, но не сделал с них ни одного оттиска; я завернул их обратно в тонкое сукно и отложил в сторону); перебирал незаконченные, брошенные полотна – их оказалось не так много, поскольку с тех пор, как отдал запасы холста на перевязочный материал для Сарагосы, он пользовался только теми, что остались на старых подрамниках, счищал с них краску и начинал новое. Я перерыл всю мастерскую, но не нашел того, что искал. И лишь только тогда вспомнил об этюдном ящике, который мне подарили на мое четырнадцати– или пятнадцатилетие; теми красками я как раз написал «Колосса» и пару меньших картин, но потом сунул его куда-то в своей комнате. Когда мы обставляли апартаменты для Мариано и Консепсьон, всяческое барахло нам пришлось вывезти в деревню; там мы свалили его в одну из комнат в старой части дома, где уже стояли перепавшие в свое время матери допотопные шкафы в стиле рококо, забитые ее источенными молью платьями и шарфами и отцовскими нарядными костюмами махо, которые он носил в молодости, еще до того, как оглох; двери комнаты оказались закрыты, и я, высунувшись из окна, покричал Фелипе, который что-то копал или подрезал в огороде. Он пришел, почесал нос, посмотрел на висячий замок и сказал: «Это ж когда было, сеньор, рази упомнишь, где ключ. Уж лучше, сеньор, новое купить, чем туда заглядывать».
Я велел ему пойти в сарай, принести лом и взломать дверь, тогда он снова запел, замок-де жалко, зачем-де кавардак устраивать, ключ, может, еще и найдется – и отправился в сарай рыться в известных только ему местах. Наконец-то нашел его в какой-то посудине для ключей, или на вбитом в стену гвозде, или где-то там еще.
В окно проникало солнце и рисовало на стене – в этой части дома неоштукатуренной, даже небеленой, шероховатой и неровной – обтрепанные по краям квадраты. Я принес валявшийся в углу стул с распоротым сиденьем, кое-как вытер его носовым платком и присел на самом краешке, чтобы не испачкаться. Зной набирал силу, а Фелипе и не думал торопиться. Все искал. Копался. Насилу приплелся, жалуясь на жарищу (а мне-то каково из-за него торчать в раскаленном коридоре, ему, видите ли, не хотелось поворачиваться, не говоря уже о том, чтобы хранить ключи в одном месте); в двух пальцах он торжествующе держал ключ. Вставил его в замок, покрутил, пощелкал – никакого толку. Полез в карман и вытащил оттуда еще штук шесть, от каких они дверей или дверец в доме – не имел ни малейшего понятия; и после четвертой попытки, хоть и не без труда, поскольку замок давно не открывали, ему повезло.