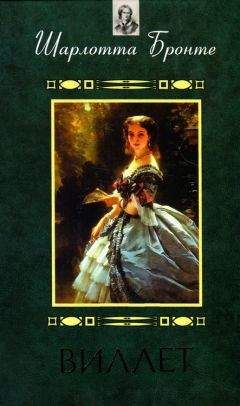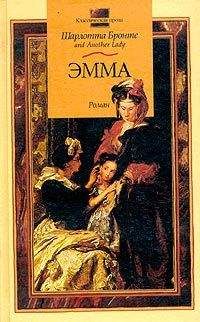Сначала мы подумали, что она ошиблась, но вскоре убедились, что так оно и было: одна опухшая ручка бессильно повисла.
— Пусть миис, — распорядилась мадам, имея в виду меня, — возьмет Фифину, et qu’on aille tout de suite chercher un fiacre![75]
С удивительным спокойствием и самообладанием, но без промедления она села в фиакр и отправилась за врачом.
Их домашнего врача не оказалось на месте, но это ее не смутило — она в конце концов отыскала ему замену и привезла другого доктора. А я пока разрезала на платье девочки рукав, раздела ее и уложила в постель.
Мы все (то есть бонна, кухарка, привратница и я), собравшиеся в маленькой, жарко натопленной комнате, не стали рассматривать нового доктора, когда он вошел. Я, во всяком случае, в тот момент пыталась успокоить Фифину, крики которой (у нее были отличные легкие) буквально оглушали, а уж когда незнакомец подошел к постели, стали совсем невыносимыми. Он попробовал было приподнять ее, но она завопила на ломаном английском (как говорили и другие дети): «Пускай меня! Я не хочет вас, я хочет доктор Пилюль!»
— Доктор Пилюль — мой добрый друг, — последовал ответ на превосходном английском языке, — но он сейчас занят, он далеко отсюда, и я приехал вместо него. Сейчас мы успокоимся и займемся делом: быстро перевяжем бедную ручку, и все будет в порядке.
Он попросил принести стакан eau sucrée,[76] дал ей несколько чайных ложек этой сладкой жидкости (Фифина была ненасытной лакомкой, любой мог завоевать ее расположение, угостив вкусненьким), пообещал дать еще, когда закончится лечебная процедура, и принялся за работу. Он попросил кухарку, крепкую женщину с сильными руками, оказать ему необходимую помощь, но она, привратница и бонна немедленно исчезли. Мне очень не хотелось дотрагиваться до маленькой больной ручки, однако, понимая, что иного выхода нет, я наклонилась, чтобы сделать необходимое, но меня опередили — мадам Бек протянула руку, которая, в отличие от моей, не дрожала.
— Ça vaudra mieux,[77] — сказал доктор, отвернувшись от меня.
Он сделал удачный выбор: мой стоицизм был бы вынужденным, притворным, ее — естественным и неподдельным.
— Merci, madame; très bien, fort bien![78] — сказал хирург, закончив работу. — Voilà un sang-froid bien opportun, et qui vaut mille élans de sensibilité déplacée.[79]
Он был доволен ее выдержкой, она — его комплиментом. Его внешность, голос, выражение лица и осанка производили благоприятное впечатление, которое усилилось, когда в комнату, где уже было почти темно, внесли лампу, осветившую его. Уж теперь такая женщина, как мадам Бек, не могла не заметить этого. У молодого человека (а он был очень молод) вид был впечатляющий. Высокий рост казался особенно внушительным в маленькой комнатке на фоне коренастых, скроенных на голландский манер женщин. У него был четкий, изящный и выразительный профиль; он, пожалуй, слишком быстро и часто переводил взгляд с одного лица на другое, но и это у него получалось очень мило; красивый рот и полный, греческий, идеальный подбородок с ямочкой дополняли портрет. Для описания его улыбки трудно второпях найти подходящий эпитет: что-то в ней было приятное, а что-то наводило на мысль о наших слабостях и недостатках, над которыми он, казалось, готов посмеяться. Однако Фифине явно нравилась эта двусмысленная улыбка, а сам доктор показался ей добрым, хотя и причинил боль. Она протянула ручку и дружески попрощалась с ним, когда он собирался уходить. Он нежно погладил маленькую ручку и вышел вместе с мадам. Когда они спускались по лестнице, она, весьма оживившись, говорила возбужденно и многословно, а он слушал с выражением добродушной любезности, смешанной с лукавой усмешкой, что мне трудно точно описать.
Я заметила, что, хотя он по-французски говорил хорошо, его английская речь звучала гораздо лучше, да и цвет лица, глаза и осанка были у него типичными для англичанина. Заметила я и еще кое-что. Когда он выходил из комнаты и повернулся на мгновение к мадам, мы с ним оказались лицом к лицу, и я невольно хорошо его рассмотрела. Вот тут-то и стало ясно, почему с того момента, как я услышала его голос, меня мучило чувство, что я уже с этим человеком встречалась. Это был тот самый джентльмен, с которым я разговаривала у станционной конторы, тот, кто помог мне разобраться с багажом и проводил меня по темной, залитой дождем дороге. Я узнала его походку, услышав, как он идет по длинному вестибюлю: те же твердые размеренные шаги, как и в тот раз, когда я следовала за ним под сенью деревьев, ронявших капли дождя.
Можно было ожидать, что первый визит этого врача на улицу Фоссет будет и последним. Почтенный доктор Пилюль должен был на следующий день вернуться домой, и его временному заместителю вовсе незачем было вновь появляться у нас. Но судьба распорядилась иначе.
Доктора Пилюля вызвали к богатому старику, страдавшему ипохондрией, в старинный университетский город Букен-Муази, а когда он предписал больному перемену обстановки, его попросили сопровождать беспомощного пациента в поездке, которая могла затянуться на несколько недель. Поэтому пришлось новому врачу посещать дом на улице Фоссет.
Мы часто встречались с ним: мадам не доверяла больную девочку бонне и требовала, чтобы я оставалась в детской подольше. Мне думается, доктор Джон был искусным врачом. Фифина благодаря его попечению быстро поправлялась, но, несмотря на ее выздоровление, от его услуг не отказались. Судьба и мадам Бек словно заключили союз и порешили, что новому доктору придется частенько бывать в доме на улице Фоссет.
Не успела Фифина выйти из-под его опеки, как объявила себя больной Дезире. Эта испорченная девчонка обладала необычайным даром притворства и, заметив, как снисходительно и бережно относятся к больной сестре, пришла к заключению, что оказаться в положении больной выгодно, и тотчас объявила, что нездорова. Роль эту она исполняла хорошо, а ее мать — еще лучше свою. Хотя мадам Бек ни минуты не сомневалась, что дочь хитрит, она весьма убедительно изображала озабоченность и полное доверие.
Меня поразило, что доктор Джон (молодой англичанин научил Фифину называть его таким образом, и мы вслед за ней тоже привыкли так обращаться к нему, а вскоре и все обитатели дома на улице Фоссет звали его этим именем) беспрекословно поддержал тактику мадам Бек и согласился участвовать в этом спектакле. Сначала он очень смешно делал вид, будто колеблется, бросал быстрые взгляды то на ребенка, то на мать и глубокомысленно задумывался, но в конце концов прикинулся побежденным и начал с большим искусством исполнять роль в этом фарсе. У Дезире был волчий аппетит, целыми днями она проказничала, воздвигая на кровати шатры из одеял и простынь, возлежала, как турецкий паша, на валиках и подушках, развлекалась, швыряя туфли в бонну и корча рожи сестрам, — короче говоря, в ней бурлило незаслуженно дарованное крепкое здоровье и бушевал дух зла. Но когда ее мать и доктор наносили ей ежедневный визит, она принимала томный вид. Я понимала, что мадам Бек готова любой ценой подольше держать дочь в постели, лишь бы помешать ее дурным проделкам, но меня удивляло терпение доктора Джона.
Пользуясь этим сомнительным предлогом, он ежедневно появлялся у нас в точно назначенное время. Мадам всегда принимала его с подчеркнутой любезностью, с радостной улыбкой и лицемерным, но искусно изображаемым беспокойством о здоровье ребенка. Доктор Джон выписывал пациентке безвредные снадобья, лукаво посматривая на мать. Мадам не сердилась на него за насмешливое выражение лица — для этого она была слишком умна. Каким сговорчивым ни казался юный доктор, к нему нельзя было относиться с пренебрежением, ибо уступчивость не превращалась у него в заискивание перед теми, кому он служил. Хотя ему нравилось работать в пансионе и он даже подолгу оставался на улице Фоссет, держался он независимо, даже несколько небрежно, правда, при этом у него часто бывал задумчивый и озабоченный вид.
Вероятно, не мое это было дело — следить за его непонятным поведением или выискивать причины и цели его поступков, но на моем месте никто не избежал бы этого. Ведь я имела возможность наблюдать за ним беспрепятственно потому, что внешность моя обычно привлекает к себе не больше внимания, чем любой незатейливый предмет обстановки — простой стул или ковер с нехитрым рисунком. Ожидая мадам, он нередко вел себя так, словно находился в полном одиночестве: задумывался, улыбался, следил за чем-то взглядом, к чему-то прислушивался. Я же могла без помех наблюдать за его жестами и выражением лица и размышлять, как объяснить его особенный интерес и привязанность к нашему спрятавшемуся в плотно застроенном центре столицы полумонастырю. Его сюда словно толкала некая колдовская сила, хотя многое здесь было ему чуждо и внушало недоверие. Он, наверное, и не предполагал, что я тоже наделена зрением и разумом.