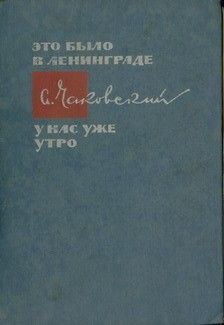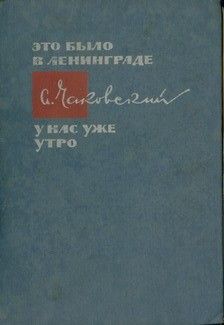Издали доносились шум, смех и пение. А когда я вошла в комнату, то увидела, что всюду – на кроватях, на полу и на подоконнике – сидят дети, и Сиверский показывает им фокусы.
Когда мы с Колей появились в дверях, дети бросились ко мне, карабкаясь на плечи, и я еле удержалась на ногах.
Маруси среди ребят не было.
– У неё нашёлся родственник, который получил разрешение вывезти девочку на самолёте, и теперь она на Большой земле, – рассказала мне Анна Васильевна. – Да и всем-то скоро ехать придётся, – добавила она.
И я узнала, что уже есть решение Москвы об эвакуации детских домов из Ленинграда и что, как только откроется навигация на Ладоге, наш детдом будет эвакуирован.
– Поедете? – спросила меня Анна Васильевна.
Я покачала головой. Разве я могла уехать из Ленинграда?
– Останусь, – ответила я.
– А я поеду, – просто и убеждённо сказала Анна Васильевна. – Надо помочь детям…
Вот я и снова одна. Мне никогда не казалось, что эта девочка Маруся заменит мне Любу. Но с ней мне было как-то теплее. Я не задумывалась о будущем, потому что тогда мне стало бы ясно, что рано или поздно мне придётся расстаться с Марусей. Теперь это совершилось. Но, странное дело, сейчас я восприняла эту разлуку совсем не так, как если бы это случилось хоть месяц назад. Я целиком находилась под впечатлением только что виденного мною оживающего, залитого солнцем города и в предчувствии чего-то значительного и радостного. Я вспомнила, как зимой стояла на Литейном и, смотря вдаль через осколок жёлтого стекла, мечтала о солнечном мире. А сейчас мне уже казалось, что я вижу этот мир наяву…
– Как хорошо, что вы пришли именно сегодня! У нас вечером гость, – объявила Валя, – Костя Линьков.
Фамилия «Линьков» показалась мне смутно знакомой, но я никак не могла вспомнить, где я её слышала.
– Да это наш соученик, мы с Валей о нём рассказывали, когда свою школу вспоминали. Он теперь партизан, – пояснила Катя. – Валя встретила его на улице, среди партизан, сопровождавших подводы с подарками для ленинградцев…
Линьков пришёл под вечер. Это был парнишка лет шестнадцати, низкорослый, отчего казалось, что лет ему ещё меньше, в полушубке, подпоясанном ремнём, на котором висел огромный пистолет в новенькой жёлтой кобуре. На кубанке Линькова была прикреплена наискось красная ленточка.
Показавшись в дверях, он остановился и сказал, улыбаясь:
– Ну, принимайте гостя!
Валя и Катя бросились к Линькову, но, подбежав, остановились, точно стесняясь обнять и поцеловать его, а он протянул им руку и проговорил спокойно:
– Выросли, выросли, девчата! И блокада вас не берёт!
Девочки представили мне гостя.
– Это, значит, и есть ваш командир? – спросил Линьков, смотря мне прямо в глаза.
Но я почувствовала себя так же, как тогда, на заводе, перед Никанором Семёновичем. Когда Линьков появился в дверях, он показался мне совсем ребёнком и немного смешным из-за своей огромной трофейной кобуры. Но теперь, когда он стоял передо мной и смотрел мне прямо в глаза, он перестал казаться мальчиком.
– Ну, здравствуйте! – Линьков пожал мне руку крепко, по-мужски.
Дети поднялись на своих койках и во все глаза смотрели на Линькова. На их лицах было радостное оживление.
– Здорово, орлы! – обратился Линьков к ребятам. – Чего ж вы тут полёживаете? У нас такие, как вы, в разведку ходят.
В его тоне звучали одновременно и снисходительность взрослого человека, разговаривающего с малышами, и задор мальчишки.
– Куда ходят? – спросил вдруг Коля.
– В разведку, – повторил Линьков.
– И наганы дают? – тихо осведомился Коля.
– А нам никто не даёт, – ответил Линьков. – Мы сами берём у фрицев.
Скоро все мы, и взрослые и дети, оказались в одном кружке у печки. На улице поднялся ветер, и Валя никак не могла растопить печку: её задувало.
– Дай-ка я, – предложил Линьков.
Затем он как-то по-особенному уложил дрова, и через минуту язычок пламени облизывал поленья.
– Здорово это у вас получилось, – удивился Сиверский.
– На том стоим, – ответил Линьков.
– Расскажите что-нибудь про партизан, – попросил Коля.
Его поддержали все ребята:
– Расскажите! Расскажите!
Тогда Линьков начал рассказывать. Мы услышали историю о том, как он попал в партизаны. Очень просто, без тени рисовки, рассказал он, как работал на оборонительных рубежах вместе с комсомольцами шефствовавшего над школой завода, как внезапно они были отрезаны от города вражеским авиационным десантом и разбежались по деревням и как впоследствии ему, Линькову, удалось встретиться с партизанами и вступить в отряд.
Затем он начал рассказывать про жизнь отряда. Мне показалось, что Линьков долго и терпеливо ждал минуты, когда он встретится со своими старыми друзьями и расскажет им о своей жизни. Он скоро увлёкся и забыл о своих слушателях, больших и маленьких. Лицо его, освещённое пламенем пылающей печки, казалось одухотворённым. Мы слушали, не сводя с него глаз.
И вдруг, пожалуй, первый раз за всё время, я подумала о том, что все мы живём в необычном мире. Я вспомнила, что, когда об этом говорил мне Саша, я не понимала его. Я думала, что это ему, внезапно с Большой земли попавшему в Ленинград, кажется, что он перенёсся в «четвёртое измерение», а нам, пережившим и видевшим здесь всё, не может это казаться. Но сейчас, слушая Линькова, я представила себе Ленинград в виде большого острова, отрезанного от остальной суши чёрным, разъярённым морем, и кругом ещё маленькие островки, на которых живут партизаны, и подумала, что действительно мы живём в страшное и незабываемое время.
Я так задумалась, что даже вздрогнула, когда услышала слова Линькова.
– И я вместе с новенькими партизанами дал партизанскую клятву, – говорил Линьков, – и тогда стал уже настоящим партизаном…
С треском выскочила из печки головёшка; он взял её рукой и не спеша бросил в печь. Я заметила, что у Линькова большая, совсем недетская рука. И я спросила:
– Скажите, что это за клятва? Что в ней говорится?
– Это клятва, которую дают все ленинградские партизаны перед вступлением в отряд, – спокойно ответил Линьков.
– Ты знаешь её наизусть? – тихо спросила Катя.
– Да, я знаю её наизусть.
И когда я уже думала, что Линьков не произнесёт больше ни слова, он встал и сказал:
– Вся клятва длинная, только там её все вместе говорят, поэтому не собьёшься.
Он сделал небольшую паузу и, смотря на пылающие дрова, произнёс:
– «…Я клянусь до последнего дыхания быть верным своей родине, не выпускать из своих рук оружия, пока последний фашистский захватчик не будет уничтожен на земле моих отцов и дедов…»
Я смотрела на пылающее лицо Линькова, и мне казалось, что он уже не видит нас, что не нам читает он партизанскую клятву.
– «…Я клянусь всеми силами, всем своим умением и помыслами беззаветно и мужественно помогать Красной Армии освободить город Ленина от вражеской блокады…»
Голос его окреп и теперь заполнял всю комнату. Десятки ребячьих глаз смотрели на Линькова точно заворожённые.
– «…Я клянусь, что умру в жестоком бою с врагом, но не отдам тебя, родной Ленинград, на поругание фашизму…»
Я поймала себя на том, что и мои губы шевелятся, повторяя слова за Линьковым, и мне показалось, что и Сиверский, и Анна Васильевна, и девушки повторяют их.
– «…Если же по своему малодушию, трусости или злому умыслу я нарушу эту свою клятву и предам интересы трудящихся города Ленина и моей отчизны, да будет тогда возмездием за это всеобщая ненависть и презрение народа, проклятие моих родных и позорная смерть от рук товарищей».
Линьков замолчал, но не сел, а продолжал стоять, озарённый красноватым пламенем раскалённой печи, а слова клятвы, которые я повторяла про себя, сами собой перешли в другие слова. «Я клянусь, – говорила я про себя, – что буду правдивым и честным человеком, что я верну к жизни этих детей…»
…Линьков ушёл поздно вечером, и с его уходом мне показалось, что комната наша опустела и чего-то в ней не хватает.
В ту ночь я долго не могла заснуть.
…И вот наступил этот день. Сегодня мы должны отправить детей на Большую землю. С утра в нашем детдоме было шумно и суетливо. Отъезд назначен на четыре часа. Но чем ближе подходило время разлуки, тем тише становилось в нашей комнате. Я почувствовала большую грусть от сознания, что никогда не увижу больше этих ставших родными детских лиц и навряд ли когда-нибудь мы, взрослые, соберёмся по-прежнему у печки и будем радоваться, глядя на выздоравливающих детей. В эти минуты я особенно остро почувствовала, как все мы пятеро крепко связаны и как трудно нам расставаться. Очевидно, не я одна чувствовала так: лица моих товарищей становились всё сосредоточеннее. Мы старались не глядеть друг на друга. Но вот прогрохотал и затих грузовик, и мы стали выводить детей и усаживать их в машину…