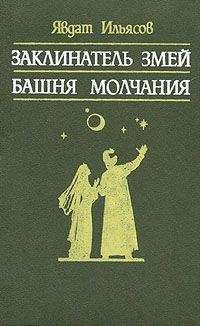Газали уже четвертый месяц, как вернулся домой, в Нишапур. Но только сегодня утром прислал Омару записку: сам не может посетить поэта, поскольку часто хворает; если Омар пожелает встретиться с ним, то найдет его в медресе Исмаила ас-Судами.
И Омару захотелось увидеть Абу-Хамида. Богослов-то он богослов, но не чета многим другим. Человек пытливый и глубоко одаренный. Впрочем, посмотрим, что из него получилось за эти четыре года…
Келья Абу-Хамида находилась на теневой стороне, сквозь решетку окна сюда проникал скудный свет. И Газали, сидевший спиной к окну, был неясен, расплывчат и казался отшельником-схимником в глубине таинственной пещеры. И голос его, от сумрака, звучал загадочно.
Он с печалью рассказывал, из-за чего ему пришлось покинуть Багдад.
– Если учитель соизволит помнить, жажда постижения истинной природы вещей была моим свойством и повседневным желанием, начиная с первых моих самостоятельных шагов, с первых дней моей юности.
– Помню, – кивнул Омар. – Ты изрядно надоел мне своими вопросами в Исфахане, где мы строили звездный храм.
Он неохотно грыз черствый хлеб, предложенный ему Абу-Хамидом. Черствый хлеб, изюм, вода – суфийское угощение…
– Я не оставил это и в Багдаде, – продолжал Газали, зябко потирая руки. В аскетической келье его было сыро. – Я не пропустил ни одного представителя батыния – без того, чтобы не полюбопытствовать о смысле его учения; ни одного представителя захирия – без того, чтобы не загореться желанием ознакомиться с сущностью его убеждений; ни одного мутакаллима – чтобы не постичь цели его писаний; ни одного суфия – чтобы не воспылать страстью к проникновению в тайны его отрешенности; ни одного ортодокса – без того, чтобы не полюбопытствовать, к чему сводится суть его ортодоксальности; ни одного философа – чтобы не задаться целью достичь глубины его взглядов
– Скажи, какой въедливый, – заметил Омар, невольно восхищенный точностью его выражений.
Сам Хайям, со своей грубой, простонародной речью, не умел излагать мысли так четко, гладко и правильно. Разве что – в четверостишиях. Но и в них его выручала образность…
– И ни одного еретика-безбожника – без того, чтобы не проследить, откуда у него берется та дерзость, с которой он отвергает всевышнего.
– И что же? – осторожно спросил Омар. – Что извлек ты из своих исканий? О батынитах, захиритах, мутакаллимах и прочих многомудрых спорщиках можешь не говорить, – их бред меня не интересует. Что ты скажешь о философской науке?
– Убедившись перед тем, на других примерах, что опровергать чье-либо учение до того, как его уразумеешь и постигнешь суть его, все равно, что стрелять вслепую, я с засученными рукавами взялся за книги и принялся усердно вникать в эту науку…
Опасный человек! Омару захотелось вина. Он с отвращением хлебнул воды.
– За неполных два года, в часы, свободные от занятий в медресе, я овладел полным объемом философских знаний. Я увидел, что философы делятся на ряд категорий, а науки их – на ряд направлений. Но на всех философах, к какой бы из категорий они ни принадлежали, и на всех их науках непременно стоит одно и то же клеймо – клеймо неверия и безбожия.
– Уж это точно, – уныло вздохнул Омар.
Его потянуло вон отсюда, на улицу, к солнцу, цветам и птицам. В харчевню «Увы мне», где веселый народ толкует совсем о других вещах…
– Их три вида, – продолжал увлеченно Абу-Хамид, найдя в Омаре терпеливого слушателя. У всех богословов, и очень умных, и менее умных, одна болезнь – проповедовать. – Дахриты не признают бога и утверждают, что мир существовал так, сам по себе, и не имел творца. Что животное всегда происходило из семени, а семя из животного. Что так было и будет во веки веков. Это – еретики.
«Интересно, из чего ты сам произошел?» – сердито подумал Омар.
– Что касается табиан – естествоиспытателей, – горячился Газали, – проводящих изыскания в мире природы, находящих диковинные породы животных и растений и изучающих их внутреннее строение, то они утверждают, например, что мыслительная потенция человека зависит от его темперамента, то есть жизненной силы. Они говорят, что немыслимо возвращение того, что раз уже погибло. Отсюда они делают дерзкий вывод, что душа умирает вместе с телом и не возвращается, тем самым отвергая потустороннюю жизнь и отрицая рай, ад, воскресение, страшный суд и расплату.
«Чтоб ты сдох! И поскорей угодил в свой рай. Зачем я пришел сюда?»
Солнце уже поднялось высоко, в келье стало светлее, в ней стали виднее грязные стены. Таинственности в келье поубавилось, проповедник утратил внушительность и его голос – загадочность:
– И третьи из них – метафизики. Аристотель, из наших – Фараби, ибн Сина. Они, глубоко погрязнув в пороках того же неверия, оказывают, тем не менее, большое влияние на умы современных людей.
– На меня, например, – кивнул Омар Хайям. – А что ты думаешь о математике?
– Надо признать, что это – доказательный предмет, отрицание которого становится невозможным после того, как он освоен. Всякий, изучающий математику, приходит в такой восторг от точности ее разделов: арифметики, алгебры, геометрии и астрономии, и от ясности их доказательств, что о философах у него начинает складываться благоприятное мнение.
– И на том спасибо!
– Он начинает думать, что все их науки обладают тем же четким и строго доказательным характером, как и эта наука, и затем, если окажется, что он уже слышал людские разговоры об их неверии и безбожии, об их пренебрежительном отношении к шариату, такой человек сам становится богоотступником.
– Так и должно быть! Знание – свет. Нетерпимость – от незнания.
– Беда в том, – Газали до того оживился, что даже взял Омара за руку, – что иные друзья ислама, в силу невежества, думают, будто вере можно помочь путем отрицания всякой науки. Они доходят даже до того, что отвергают рассуждения астрономов о лунных и солнечных затмениях! И тогда, видя несуразицу в их возражениях человек посвященный проникается к философам еще большим доверием и симпатией, а к исламу – презрением. Преступление перед религией совершают люди, полагающие, что исламу можно помочь отрицанием математических наук.
«Экая гнусная изощренность! – подумал Омар с отвращением. – И все это для того, чтобы спасти религию, которая уже трещит по всем швам под напором свободомыслия. Все равно она обречена. И ухищрения Газали для нее – все равно что мертвому припарки».
– Не имеют также, – витийствовал Газали, – никакой связи с религией, ни в смысле отрицания, ни в смысле утверждения, логика и физика. Религия не должна отклонять и врачебную науку. Все это я изложил в своих сочинениях «Тенденция философов» и «Ответы на вопросы».
– Не читал, – сухо сказал Омар. – Я подобное чтиво не признаю.
Газали пропустил его выпад мимо ушей. В течение всей беседы он будто не слышал замечаний поэта. Это и есть фанатизм: с пеной на губах, нахраписто, самозабвенно утверждать свое, не слушая возражений, даже самых дельных, заранее отнеся их к разряду несостоятельных: «Я прав потому, что это говорю я; ты неправ потому, что это говоришь ты…»
– Но меня не поняли в Багдаде, – с недоумением развел руками Газали. – Мои сочинения вызвали в среде богословов бурю негодования. Говорили, что, следуя этим путем, я могу постепенно усомниться и в существовании бога. Я был отстранен от преподавания. Мне угрожали. Пришлось уехать…
«Ясно! Умный и дельный слуга перерос глуповатых господ. Переусердствовал. Ох уж эти аскеты-подвижники, сгорающие на собственном огне».
– Выходит, – сказал Омар с ядовитой усмешкой, – даже ты, правоверный до мозга костей, не сумел угодить ортодоксам?
– Не сумел. Потому что осмелился думать о божьей правде по-своему…
– Но это же – ересь! Настоящий мусульманин не имеет права думать. Даже о божьей правде. Тем более, по-своему. Долби бездумно, как попугай, молитвы, которым тебя научили с детства, делай вид, что строго соблюдаешь предписания шариата и не задавай вопросов, – и ты в безопасности. Чем ты занимаешься здесь?
– Преподаю мусульманское право. Но это – видимость. Из Багдада, от халифа нашего, прибыло решительное повеление: написать против разрушителей веры Аристотеля, Фараби, ибн Сины трактат «Опровержение философов», разоблачающий истинный, вредный смысл их учения.
– Вот как, – насторожился Омар.
– Этого я не могу не сделать. Я уже составил список тех, кто, находясь под влиянием упомянутых нечестивцев, нарушает догмы ислама. Я изучаю отдельных лиц, равнодушных к закону, выспрашиваю их об одолевающих их сомнениях, осведомляю о тайных желаниях. Я говорю: «Что с тобой? Почему ты так небрежен в выполнении требований шариата? Ведь не обменяешь две вещи на одну, – почему же ты размениваешь бесконечную жизнь на считанные дни здесь, на земле?»
Солнце заглянуло прямо в келью. Внизу стен с облезлой штукатуркой, в углах обозначилась плесень. Проповедник и голос его безнадежно и мерзостно выцвели.