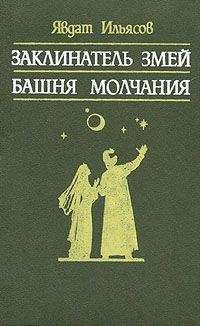– Ах, погибнешь, погибнешь! Опомнись, пока не поздно. Спасение падших – на пути, которым идут люди нашего братства.
Омар яростно стиснул зубы. Он ненавидел это братство! Из-за отца. Это они, словоблуды, сбили с толку трудового, простого и честного человека и довели его до того, что он умер, как бродячий пес, на пороге дервишской обители…
– Я, грешный… равнодушен к суфизму. Он слишком утончен для меня. Он требует полной отрешенности от человеческих желаний. У меня же много грубых страстей, которые я, несчастный, одолеть никак не в силах. Зато, – может быть, тебе пригодится, – у меня есть мальчик-слуга, сирота. Подобрал на базаре. Невзгоды юности настроили его на серьезный лад, и он живо интересуется вашим учением…
Газали встрепенулся. Завербовать для общины нового сторонника – мюрида – заманчиво. Юная душа, едва лишь тронутая житейской грязью. Ее можно очистить и придать ей божественный блеск…
Газали, остановившись и сунув палку под мышку, лихорадочно потирал костлявые руки.
– Мне не терпится увидеть его! Подзови этих. Поспешим…
Омар сделал знак носильщикам.
Мальчик, открыв калитку, сложил ладони вместе и низко склонился перед Газали. В белом тюрбане, в широкой белой куртке, в узких белых штанах, – это понравилось богослову, так как соответствовало его суфийским понятиям о чистоте.
Так и встретились они, оба белые, как пеликан и чайка в заливе Каспия…
Газали пытался заглянуть слуге в лицо, но тот скромно прятал его. И это понравилось Газали. Не совсем испорчен…
Хозяин и слуга помогли почетному гостю взобраться по лестнице в жилье.
Басар, лежавший в сторонке, сперва было заинтересовался новым человеком, но затем скучающе отвернулся. Даже с места не встал. Ничего особенного. Что-то белое и невзрачное. Во всяком случае, для хозяина не опасное.
Газали усадили на мягкой подстилке, набросали ему под локоть круглых подушек.
– Я кухней займусь, – сказал Омар. – А вы пока знакомьтесь… Его зовут Хамидом, – кивнул поэт на мальчишку. – Так что, Абу-Хамид, можешь считать его сыном…
Арабская приставка «Абу» к имени означает «отец такого-то», но человек не обязательно имеет ребенка с этим именем. Она указывает, скорее, на возможность мужчины быть родителем сына или дочери с теми или иными достоинствами. Так уж принято. «Абу-ль-Фатх», например, второе имя Омара, переводится как «Отец завоевателя». Хотя никаких детей, тем более, завоевателей, у Омара Хайяма нет и теперь уж, пожалуй, не будет.
Мальчик, как положено слуге, пошел проводить его к выходу.
Омар заскрипел ступеньками лестницы. Хамид обернулся у двери, – Газали беззвучно ахнул и откинулся на подушки. Огромные черные глаза с крылатыми бровями. Слуга тут же потупил их. Будто ласточка мелькнула. Богослов не успел уловить их выражение. Морозная дрожь прошла по его костлявому телу…
– Удобно ли вы устроились? – Голос задумчивый, нежный, замирающий на последних звуках как будто где-то вдали…
И вновь – огромные черные очи. Поэты называют их агатовыми. Газали видел такие на миниатюрах. И с презрением отворачивался от них. Художники лгут. Чтобы приукрасить эту мерзкую жизнь. Таких глаз не бывает у живых земных женщин, этих гнусных тварей. Они возможны только у райских гурий.
Откуда же они у этого мальчишки? Газали охватило смутное беспокойство. Их выражение? Ожидание. Искательность и готовность. Которую он, настроенный на назидательную беседу, истолковал как готовность внимать слову божью.
Из-под тюрбана, как змея из-под белого круглого камня, на румяную гладкую щеку вылезла прядь вьющихся черных волос. Личико – худенькое, совсем еще детское. Детский носик. И рот – пухлый, детский, наивный. Лишь темная поросль на верхней губе да странное подрагивание придавали этим невинно-алым губам некую, чуть уловимую, порочность…
Мальчик принес из передней скатерть, развернул, расстелил ее. Газали, озадаченный, следил за его проворными руками, за тонкими ловкими пальцами, которые за любой предмет брались с особым значением, как за вещь, тайно ему известную.
Но больше всего смущал богослова вихляющий зад: сам мальчишка тонкий, легкий, а зад у него совсем не мальчишеский. И он, наклоняясь, опускаясь на колено или вставая и разгибаясь, как нарочно выставляет его самым бесстыдным образом.
Тьфу! Непотребство.
Хамид принес стопку румяных лепешек, кувшин с молоком и глубокую миску со сливками. Затем поставил на скатерть большое медное, вычищенное до блеска блюдо с ранними плодами. Блюдо до ободка выстлано крупной спелой черешней, а в середине, горкой, желтые абрикосы. Хорошо смотрится – темно-красное с желтым. Как рубин с янтарем…
Появился еще кувшин – высокий, с узким горлышком…
– Прошу, – мальчик сделал предлагающий жест, и опять движение его рук – от себя и в стороны – показалось шейху двусмысленным.
– Просим, просим отведать, – сказал Омар, заглядывая в дверь. – Вот незадача, – вздохнул он огорченно. – Оказалось, уксус весь вышел. И укроп с петрушкой увяли. Простите его, он слуга еще молодой и неопытный, к порядку еще не привык. Придется мне самому сходить на Зеленый базар, тут близко. А вы беседуйте…
– Я уксус в пищу не употребляю, – капризно сказал Газали. – От него у меня сердцебиение.
– Зато мы с Хамидом без уксуса, перца, чеснока и лука, и без разной острой и кислой травы жить не можем. Сердцебиение у нас происходит от постного и пресного. Беседуйте! Учите его уму-разуму.
Он взял корзину, ушел, хлопнув калиткой. Хамид, поджав стройные ноги, скромно опустился на подстилку по ту сторону скатерти, напротив Газали, готовый вскочить по первому его желанию.
– Итак, ты стремишься к богу? – Газали разломил лепешку.
– Всей душой. – Хамид взял узкогорлый кувшин, налил в чашу темный прозрачный напиток. – Шербет. Хотите?
– Потом, потом.
– Я выпью. – Он выпил. Глаза его увлажнились. В их глубине, постепенно разгораясь, засветился лукавый огонек.
– Бог – это свет, – произнес шейх торжественно. – Человек телесный пред ним – ничто. Ибо видимый мир пуст и призрачен, он лишь отображение небесного или, иначе, отражение свойств и качеств божественного абсолюта.
Хамид с недоумением хлопнул себя по бедрам, как бы не веря в их призрачность…
– Зато душа человека, – преподавал шейх слуге основы суфизма, – есть эманация, то есть истечение божественного духа.
– Словом, бог – это свечка, а душа человека – луч этой свечки?
– Свечка! – возмутился Газали. – Бог – исполинский источник яркого света искрящейся белизны! И душа человека, будучи отделена от своего источника, страдает и стремится вновь соединиться с ним. Конечная цель души – вновь слиться с богом, достичь с ним нераздельности.
Богослов со вздохом макнул кусок лепешки в миску со сливками. Но есть не стал, положил на поднос. Хамид, между тем, запихивал в рот сразу по половине лепешки, горстями ел черешню, небрежно выплевывая косточки на скатерть, не забывая подлить себе в чашу из подозрительного кувшина.
– Ешь, как зверь, – строго заметил шейх. – Одно из главнейших условий приближения к богу – скромность в еде. Ибо голод есть пища аллаха. Он, обостряя внутреннее зрение, открывает человеку звезды и через них – путь к небу.
– Это верно, – согласился Хамид с полным ртом. – Помню, иной раз, когда не ешь по три дня, идешь по улице еле живой, и вдруг в голове замелькают звезды… Если нет под рукой дерева, чтобы ухватиться, или ограды, то упадешь в канаву. Канава и есть путь к богу?
– Не смей! – одернул его богослов. – Путь к богу долог, сложен и труден.
– Отдохнем, коли так? – предложил Хамид. Его разморило от шербета, и он, не стесняясь, растянулся на подстилке.
Газали сердито отвел глаза от его широких бедер.
Во дворе послышалась легкая возня, звякнул половник, зашипели сало и мясо в уже раскаленном котле. Омар, видно, вернулся с базара.
– Ох, как пахнет! – облизнулся Хамид. – Люблю мясо. Мой хозяин мастер жарить его. Пальчики оближешь. – Он, опираясь о локоть правой руки, быстро-быстро зашевелил пальцами левой, будто собираясь пощекотать шейха, и поцеловал их.
– Тебе придется отказаться от мяса, – сурово сказал богослов. – Если ты вправду намерен идти к богу нашим путем. И от мяса, и от шербета, – а то, я вижу, ты от него дуреешь. Ты испорченный мальчик, – сокрушенно вздохнул Газали. – В тебе, я чую, так и кипят низкие страсти. От тебя исходит грех…
– Это моя эманация, – хихикнул слуга. Его нежное лицо разрумянилось, в черных волосах на верхней губе заблестели капельки пота.
Он действовал на шейха раздражающе, но наставник должен быть терпелив. Газали, не глядя на мальчика, упрямо бубнил:
– Прежде всего ты должен пройти «шариат» – первую стадию приближения к богу. То есть безусловно соблюдать во всех мелочах мусульманское законодательство. Затем «тарикат» – вступление на путь суфийства. На этой ступени следует полностью отказаться от себя, от воли своей. Мюрид должен быть в руках шейха, как труп в руках обмывателя мертвых.