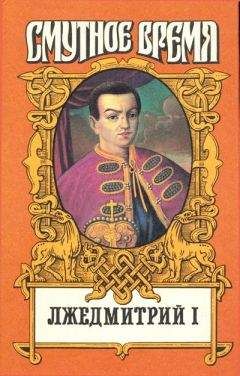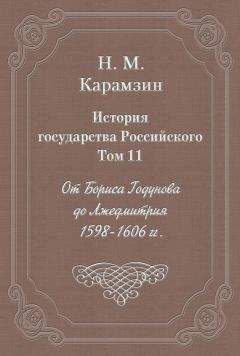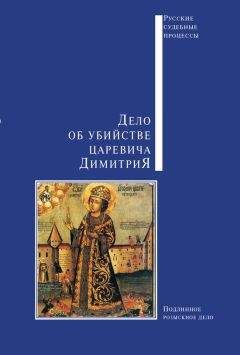— Целую святой крест…
— И святое Евангелие. Аминь. Теперь следуй за мной, сын мой, я проведу тебя в церковь, — сказал духовник «царевичу», когда клятва была закончена.
Что-то щемило сердце Димитрия, когда он следовал за своим духовником. Он смутно начинал сознавать, что то, что он совершает, есть преступление большее, пожалуй, его самозванства: можно обманывать людей, шутить над ними, но нельзя дерзновенно играть именем Божиим, делать крест и Евангелие орудиями низменных целей.
В церкви у алтаря уже ждал Рангони в полном облачении.
Несколько поодаль стоял Мнишек.
— Чадо! — сказал Рангони «царевичу». — Церковь приняла тебя в свое лоно. Остается только укрепить этот союз — согласно выраженному тобою ранее желанию — таинствами святого Миропомазания и Евхаристии. Приступим же с благоговением к сему, сын мой.
«Царевич» опустился на колени. Вокруг него раздавалось чтение и пение латинских молитв, псалмов и возглашений, но он мало прислушивался к ним, он рылся в тайниках своей души, силясь понять, что это, новое, прежде незнакомое, копошится в ней? Он так ушел в созерцание себя, что опомнился только тогда, когда Рангони подошел к нему со святым миром.
Нунций помазал святым миром части тела Димитрия, как требуется по правилам религии, потом, согласно уставу католической церкви, слегка ударил миропомазанного по щеке со словами:
— Мир ти!
Димитрий не знал этого обычая. Он вздрогнул, краска стыда покрыла его лицо; этот легкий символический удар, обозначающий только то, что отныне миропомазанный должен со смирением претерпевать все удары судьбы, показался ему заслуженной пощечиной.
Он пересилил волнение, с благоговейным видом принял Святые Дары, улыбался радостно, когда его поздравляли со вступлением в лоно католической церкви, но он чувствовал на щеке след пальцев нунция, этот след жег щеку; минутами ему казалось, что этот след — клеймо, и каждый, кто взглянет на него, узнает отступника.
«Что ж делать! Цель оправдывает средства!» — думал успокоить себя Димитрий, покидая в сопровождении Мнишека дворец иезуитов, и тотчас же сознал, что этот девиз, которым пользуются последователи Игнатия Лойолы — да и не одни последователи Лойолы! — не может принести успокоения, потому что он — ложь: никакая цель не может оправдывать средства. Преступное всегда преступно, ради чего бы оно ни делалось. И понял «царевич», что отныне на дне его души всегда будет таиться горечь и — станет ли он царем, обратится ли в прежнего Григория — всегда она будет каплею полыни в ложке меда.
В Галиции, верстах в полутораста от Самбора, находилось поместье пана Иосифа Щерблитовского.
Это был «прелестный уголок». Большой панский дом тонул в зелени фруктовых садов. С пригорка, где он стоял, виднелись полосы полей и лугов, пересекаемые неширокой, но глубокой и быстрой речкой.
Обитателей в панском доме, исключив холопов, было всего четверо: сам пан Иосиф, его жена Домицила, сын Станислав и троюродная племянница пани Домицилы — Маргарита.
Вот уже пятнадцать лет, как пан Иосиф не только не переезжал через границы своего поместья, но и не переступал за порог своего дома: жестокая болезнь ног приковала его к креслу. Пан Иосиф очень страдал, но не жаловался на судьбу; тайною же молитвою его было всегда, чтобы Бог послал поскорее ему избавленье от мук и чтоб ему привелось умереть на руках жены и любимого сына.
Но год проходил за годом, а старик все сидел в своем кресле, полуживой, полутруп, в тягость себе самому, обуза, как он думал, для окружающих.
Станислав, младенец в начале отцовской болезни, успел превратиться за это время в красивого стройного двадцатилетнего юношу, панна Маргарита, взятая в дом маленькой девочкой, выросла в семнадцатилетнюю девушку.
Болезнь пана Иосифа была единственным темным пятном на светлом фоне жизни Щерблитовских. Жизнь их текла тихо и мирно.
Днем пани Домицила хлопотала по хозяйству, панна Маргарита сидела за каким-нибудь вязаньем, пан Станислав объезжал поля, охотился или сидел за латинской книгой, а старый хозяин, больной только телом, но не духом, каждое утро просил пододвигать свое кресло к столу, заваленному рукописями, книгами, и отдавался работе.
Потомок одного из древнейших родов, некогда блестящий придворный кавалер, теперь оторванный от прежней шумной жизни, он не жалел об этом: он нашел себе иную жизнь в научных трудах. Лишенный всяких удовольствий, занятый только наукой, он жил в ином мире, недоступном для его домашних, в мире, полном гармонии.
Пани Домицила и «маленькая Маргаритка», как звал старик племянницу по старой привычке, благоговели перед его ученостью, но этим и ограничивались: постичь «премудрость пана Иосифа» им казалось чем-то невозможным. Старик посмеивался над ними и утешался тем, что, по крайней мере, нашел себе помощника в лице сына.
Станислав действительно мог радовать сердце старого ученого: он любил науку, казалось, не меньше отца. Но мало-помалу, по мере того как пап Станислав мужал, в нем начала совершаться перемена. Он все меньше и меньше просиживал с отцом, все больше и больше времени стал отдавать охоте; иногда он по целым дням пропадал из дому и приходил домой усталым, забрызганным грязью, но довольным. Его глаза светились удовольствием, грудь дышала свободно, а на молодом лице лежало выражение какой-то молодецкой удали.
Если в это время пан Иосиф говорил ему: «Поди-ка сюда, Станислав, я тебе скажу кое-что новенькое», сын нехотя отвечал: «После, батюшка, я теперь устал, не до наук мне».
Наконец настало такое время, когда Станислав совсем перестал являться к отцу для занятий; вместе с тем перестал он и пропадать надолго из дома — он забросил охоту, как и науку. Он сделался мрачным и неразговорчивым, худел и бледнел. Прежде, бывало, по вечерам он любил болтать с Маргаритой, теперь эти беседы прекратились.
Отец наблюдал за ним и тяжело вздыхал. Когда Станислав встречался с устремленным на него взглядом отца, он краснел и отворачивался.
Однажды пан Иосиф позвал к себе сына.
— Мне надо поговорить с тобой, Станислав, — сказал он, — Не бойся, не о науках, — добавил старик с грустной улыбкой.
— Я слушаю, батюшка, — пробормотал смущенный юноша.
Отец начал без предисловия:
— Тебя манит жизнь, Станислав?
Сын потупился и отрицательно качнул головой.
— Не отрицай! К чему лгать? — строго заметил отец. — Ничего преступного тут нет, твое желание вполне естественно, и если кто виноват, что тебе пришлось немножко пострадать, так это один я.
— Ты?
— Да, я. Я был недальновиден: я должен был понять, что то, что может удовлетворять больного старика, у которого жизнь позади, а перед ним — одна могила, не удовлетворит полного сил юношу. Молодость просит жизни. Я был недальновиден… Нет, вернее, я это давно сознавал, но заглушал это знание потому, что слишком любил себя: мне страшно было решиться на разлуку с сыном. Теперь я решился.
Старик замолчал и поник. Молчал и Станислав. Он переживал теперь странное душевное состояние.
Да! Его, конечно, манила жизнь. Это скучное, однообразное житье в деревне ему надоело. Он чувствовал, что кровь его закипает, когда ему приходили на память рассказы отца о битвах, о шумных пирах, о блеске придворной жизни, о красавицах паненках; он негодовал при мысли, что ему придется, быть может, весь век свой провести вдали от всего этого в глуши родового поместья. Поэтому первым чувством, которое овладело им после слов отца о его готовности на разлуку с сыном, была радость. Но она быстро сменилась другим чувством. Ему вдруг стало страшно той неизвестной, желанной, шумной жизни, которая ожидает его.
Он мысленно представил себя вдали от родного дома и почувствовал себя одиноким, покинутым среди чуждой ему толпы. Сердце его сжалось.
— Нет, батюшка! — воскликнул он под влиянием этого чувства. — Я всю жизнь буду с вами! Зачем нам расставаться?
Пан Иосиф грустно улыбнулся и покачал головой.
— Нет, милый Станислав, я не хочу жертв. Поезжай, посмотри жизнь, и если вблизи она покажется тебе не такой привлекательной, как издали, тогда… тогда возвратись к своему старому, больному отцу…
Голос старика дрожал, когда он говорил это.
Пани Домицила, сидевшая неподалеку, рядом с племянницей, за какой-то работой, только теперь поняла, что пан Иосиф толкует с сыном не о научных «премудростях».
— Как! Ты хочешь, чтоб Станислав уехал? — воскликнула она.
— Да. Ему надо немного отведать жизни.
— Но куда же ты его отправляешь?
— Я отправляю его к своим дальним родственникам, Мнишекам. Они живут богато, не чета нам. Там Станиславу будет, что посмотреть. К тому же у них теперь этот царевич, о котором кричит вся Польша и Литва. Я слышал, что пан Юрий отправился с ним в Краков к королю. Не знаю, вернулся он или нет. Но это все равно, пани Мнишекова и без него радушно примет Станислава… Снаряжай сына в путь, Домицила.