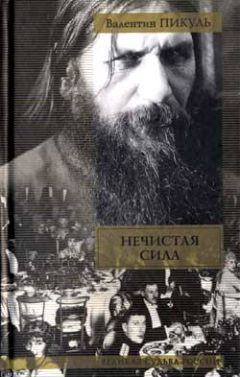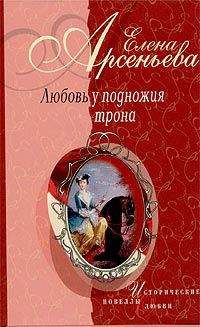Напротив Распутина сидел жандармский унтер-офицер, приставленный для сопровождения. С кропотливым тщанием, словно ювелир, шлифующий бриллианты, он делал себе бутерброды с «собачьей радостью» и, обожая жизнь в крохотном мизере, мельчил их ножиком так, словно собирался кормить воробьев.
– Дозвольте выйтить вон, – вежливо обратился к нему Гришка.
– Это зачем же тебе вон выходить?
– Третий дён не опростамшись. Уже… того!
– Терпи, – отвечал жандарм. – Или глаз нету? Видишь же, что я пишшию потребляю. А ты мне петит портишь…
«Что-то будет?» – заглядывал Гришка в неясное будущее, а паровоз кричал впереди нехорошо, будто угрожая ему. Воображение уже рисовало тюремные решетки. Вся беда в том, что жандарм принимал Распутина за «ниспровергателя существующих устоев», и, ведя его в уборную, он разводил тоскливую лирику:
– Сицилистов тех самых, которы против бунтуют, завсегда сопровождать приходится. Но все больше в Сибирь! А ты, видать, немало нашкодничал, ежели тебя из Сибири вывозим…
Первую тысячу верст, которую пробежал паровоз от Тюмени до Ижевска, Гришка затаивал тревогу, потом все-таки не выдержал:
– Имею надобность…
– Опять? – взъярился жандарм. – Не поведу, хоть лопни!
– Я не про то. Узнать бы – куды едем-то?
– Того тебе, безбожнику, знавать не надобно…
«Ой, плохо, – заробел Григорий. – Как бы не замучили втихую, никто и не сведает…» Вспоминал грехи свои – за какой из них отвечать? Нежным теплом отдавало в памяти об оставленных дома полатях. С пахучей овчиной. С родными клопами. Пестрая, крикливая Казань, машущая татарскими халатами, проплыла вдали и сгинула, – стал он понимать, куда везут. На станции Костыхино, что встретилась перед Муромом, жандарм, почуяв конец пути, сгоношил себе водки, но Гришке даже пробки нюхнуть не дал. Вылакал всю водочку сам, закусывая каждый стакан нещадным курением махорки.
– Сицилист! По глазам вижу, что жулик.
– Как вам угодно, – ёжился Распутин, покорствуя…
А за окном уже вспыхивали красные крыши подмосковных дачек, изменилась в вагоне и публика, в тамбурах стояли бабы с лукошками, едущие на базар, – близилась Москва. «Ну, видать, здеся и прикончат», – тоскливо мыслил Распутин. Паровоз вкатил вагоны сибирского поезда под закопченные своды вокзала. Пробежали гимназисты с букетами магнолий, величаво проплыли монументы двух генералов, озирающих череду сибирских вагонов, и вдруг…
Распутин, подпрыгнув, плотно прилип к окну.
– Он! Никак это он самый?..
Его встречал сам Иоанн Восторгов; из-под рыжего пальто протоиерея змеино стелилась по доскам перрона шелковая ряса. Но вырвать Гришку из лап жандарма оказалось не так-то просто.
– Разойдись! – гаркнул на попа унтер. – Это не по духовной части, а по той самой… сицилист! По глазам вижу…
Распутин в их спор не мешался: коли нужен, так и без него разберутся. Жандарм получил расписку на бланке черной сотни, и Гришка попал в ведение протоиерея. Восторгов дружески подтолкнул его к пролетке, в кою был впряжен золотистый рысак.
– На Большую Дмитровку… гони, душа из тебя вон! – Потом, явно довольный, пихнул Распутина в бок. – Эки дурни, – сказал проникновенно. – Мы хотели явить тебя на Москву аки гостя почетного, а они… волки тюменские! Хорошо хоть в кандалы не заковали. Ничего. Сейчас обживешься. Приоденем тебя. И заживем мы, Гришуня, так, что нам еще люди завидовать станут…
Распутин слушал в смятении: на что везли из такой дали, за что будут одевать и кормить? На всякий случай, делая постное лицо, он часто крестил себя на многочисленные купола храмов.
– Ай, благодати-то сколько, – шептал умиленно.
А сам думал, что с этим шустрым попом ухо надо держать востро. «Ежели хоть сотню рублев с него выжулю, – размышлял дерзостно, – оно и ладно…» Тпррру! – приехали. Дом со швейцаром. Прошли в квартиру. Но дальше передней Гришка заупрямился:
– Эко чисто у вас. Боюся, полы загавержу.
– Шут с ними, Гришуня, ступай в комнаты.
– Куды-ы уж нам! Мы с уголка постоим. Коли корочку в сольцу обмакнете да мне пожевать дадите – вот и спасибочко…
Восторгов силком пропихнул Гришку в двери гостиной. Сажал за стол, где в ананасном кувшине фиолетово светилась настойка на черной смородине, пузатой горушкой пыжилась в хрустале рубиновая икра, а в изумрудной желтизне, радуя глаз, сочно обтаивали перламутровые ломти свежей астраханской осетрины.
– Ну вот, Гришуня! – хлопотал отец Иоанн. – Садись, дорогой. Сам видишь, что живу я скромно. Что бог дал, то и на столе…
Распутин сообразил, что его принимают за кого-то такого, каким он никогда не был. А потому и себя решил показывать не тем, кем был. Примостился с угла, обжадавело зыркая на яства.
– Не-не-не-не! – заговорил торопливо, отодвигая рюмку. – Упаси нас бог согрешить. Я ведь и не курю. Божие дыхание к чему копотью пакостить? Вот разве что селедочки постненькой… с молокой она у вас? Угощусь с вашего соизволения. Можно?
– Да бери что видишь, – надоело Восторгову миндальничать. – Что-то ты, брат, в Покровском иначе себя показывал. Да зачем хвост-то тянешь? Эвон, какой кусочек сам на тебя смотрит…
После завтрака отец Иоанн, держа в пальцах длинную папиросу «Эклер», сказал весьма значительно:
– Поживи-ка ты у меня. Потолкуем. О том о сем. Кое-кого и навестим. Можешь погулять. Вот тебе двадцать рубликов. Аванс! Трать. Не бойся. Истратишь – еще дам. Ты мне нужен…
В небывалом волнении, предчуя нечто новое в жизни, Распутин вышел на кухню, хлобыстнул из-под крана три стакана воды.
– Опосля селедочки, – сказал он попу, – завсегда приятно водички попить холодненькой… Водичка, она вить от бога дана!
* * *
Восторгов сначала представил Распутина в ЦК своей партии – уже в долгополой сибирке из сукна, в скрипучих сапогах, а подол новой его рубахи был расшит петушками и коромыслами. В окружении господ, которые глядели строго, закрикивая вопросами на разные темы, далекие от мужицкого понимания, Распутин прибег к маскировке. Демонстративно, с показной неприязнью отмахивал от себя дым папирос, отвечал с кряканьем, словно дрова колол:
– Все от бога… и говорить неча! Спаси нас помилуй… это уж так! Оно конешно… без бога-то и чирей не вскочит!
Когда смотрины будущего агитатора закончились, Распутина без церемоний выставили за дверь. Присяжный поверенный Булацель строгим тоном юриста назидательно выговорил Восторгову:
– Не понимаю, Иоанн Иоанныч, на кой черт вам нужно было тащить его из Сибири, если подобных жуков можно набрать сколько угодно на любой трамвайной остановке в той же Москве?
– Но он же оригинален, – защищался Восторгов. – А вы, господа, уж простите, оторвались от народа. Вам не понять всей черноземной непосредственности Распутина.
– Послушайте! – возмутился Булацель, вскакивая. – Я же ведь адвокат, а мы умеем проникать в любую душу. Распутин самый обычиый подонок, каких немало в той среде народного вакуума, что всегда возникает между пролетариатом и крестьянством. Я наблюдал за ним! Отвратный, гадкий и мерзкий тип… И этого прохиндея вы хотите сделать агитатором для наших народных чайных?..
Черная сотня единодушно отрыгнула Распутина, как дурной перегар после тяжелого похмелья. Но зато в Гришку хватко вцепился, будто клещ в паршивую собаку, протоиерей Восторгов.
– Вот что, Григорий! Скрывать не стану – не показался ты нашим. А виноват сам… Что ты заладил словно дьячок над покойником: никто как бог, на все воля божия… Обложил бы их всех по матери – вот и постигли бы они твою черноземную силушку…
Гришка понял, что с богом он перегнул палку. Бог, конечно, сила решающая, но ведь и черта забывать не следует. Слушая ругань протоиерея, оглядывал свои новехонькие сапоги; его волновал вопрос: «Неужто сдерет их с меня? Или забудет?»
– Ладно! – помягчал голос Восторгова. – Не в лоб, так по лбу, а мы своего добьемся… Вникай! Есть в Питере одна барыня. Из очень знатной фамилии. И к царю, и в Синод вхожая. Она тебя знает. С моих же слов. Я ей писал. Но сначала я тебя по Москве покатаю. Если и здесь не покажешься, тогда… Сам не маленький, должен понять, что возиться с тобою напрасно не стану!
Распутин всю эту ночь провел в молельне протоиерея. Там он плакал. Вскрикивал. Истово отпускал поклоны до полу.
– Во псих! – крутился в постели Восторгов. – Так лбом барабанит, что соседи снизу могут прийти… И не поймешь, с кем я связался: то ли мазурик, то ли и впрямь святой…
Восторгов немало поломал голову – под каким соусом подавать Распутина в свете? Быть юродствующим во Христе, славильщиком бога – нельзя, ибо таких придурней уже полным-полна коробушка. Быть прилизанным и робким «сыном народа», взыскующим у господ истины, – тоже нежелательно, ибо в этом случае не Распутина будут слушать, а он сам обязан внимать с разинутым ртом. Восторгов же, ради предбудущих выгод своей карьеры, ставил на Гришку многое и текущих расходов не жалел. Из кошелька выдернул две «катеринки», велел их в Покровское отправить. Пичкал Распутина лекциями, совал ему для прочтения свои брошюрки. Тот мусолил страницы, читал по складам, докладывая: