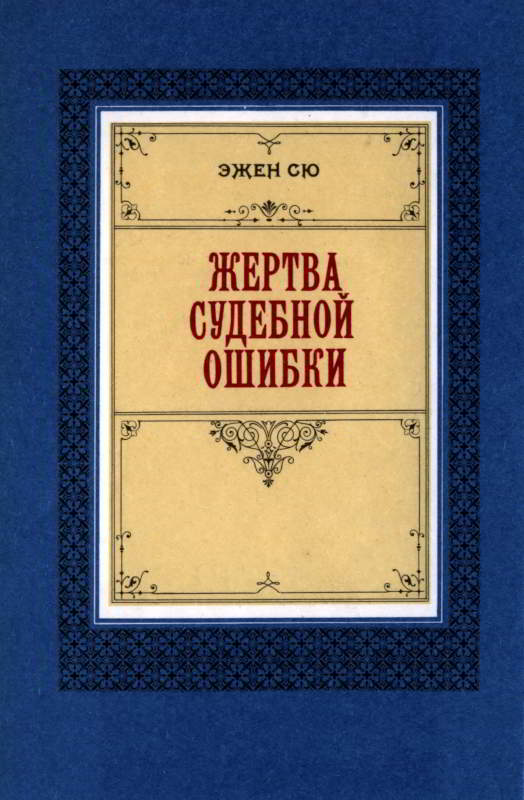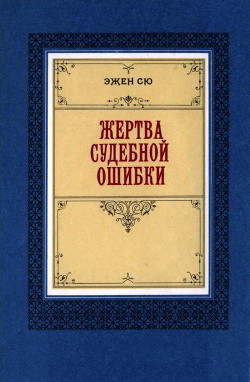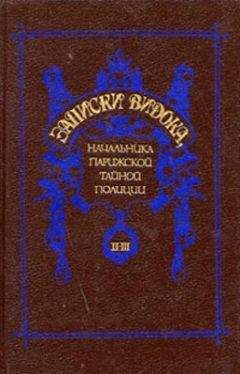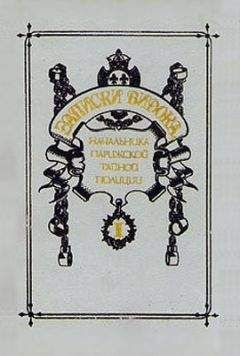мне его найти? Дело касается спасения моей матери: ей очень плохо.
Слова и волнение молодой девушки так резко противоречили веселому шуму и оживлению маскарадной публики, что контролер, Мария с мужем и Дюкормье почувствовали себя неприятно. Контролер отвечал:
— К сожалению, доктора Бонакэ нет здесь, сударыня.
— О, какое несчастье! — вскричала девушка, поднося платок к губам, чтобы заглушить рыдания.
— Успокойтесь, сударыня. Доктор, быть может, скоро вернется. Если желаете подождать…
— Ждать его? А мама? Ах, Боже мой, что делать? Как тут быть?
— Бедняжечка! — сказала Мария. — Так уж ведется на свете, что в то время, как одни веселятся, другие надрываются от слез.
— Правда, моя милая Мари. Плохо закончился наш вечер; это печально, — отвечал Жозеф.
Анатоль, тронутый горем молодой девушки, обратился к ней несколько нерешительно:
— Я не имею чести быть известным вам, сударыня, но доктор Бонакэ — мой лучший друг, и если вы желаете, я подожду его здесь, передам ему о вашей тревоге и беру на себя смелость пообещать от его имени, что он сейчас же приедет по адресу, если вы пожелаете дать его мне.
— О, милостивый государь, благодарю вас, благодарю, — отвечала молодая девушка с признательностью. — Принимаю ваше предложение, потому что оставила маму в опасном со-стоянии и одну со служанкой. Но я поехала за доктором сама, чтобы обязательно привезти его. Будьте добры, скажите ему, чтобы он поспешил к г-же Дюваль.
— К г-же Дюваль? В Марэ? — спросил Анатоль с удивлением.
— Да. Но почему вы знаете? — отвечала девушка с неменьшим удивлением.
— Нынче утром, сударыня, я отнес вашей матушке книги, которые поручила мне передать из Англии м-ль Эмма Левассер.
— В самом деле, мы получили книги и вашу карточку. Благословляю случайность, что я встретила вас здесь. Я могу ехать домой с уверенностью, что доктор скоро приедет. Попросите его не терять ни минуты, потому что маму схватило разом, и я очень тревожусь за нее.
В то время как м-ль Дюваль говорила с Анатолем Дюкормье, к нему подошла герцогиня де Бопертюи (она не теряла его из виду) и шепнула:
— В субботу, не забудьте.
Таким образом, в эту минуту Анатоль оказался окруженным тремя женщинами: сзади шептала ему на ухо Диана де Бопертюи, перед ним Клеманс Дюваль благодарила за любезное предложение и слева стояла Мария Фово, опираясь на руку Жозефа. И в эту же минуту где-то близко, как будто из-за соседней колонны, послышался пронзительный свистящий шепот, и только до слуха Анатоля и окружавших его трех женщин долетели следующие слова:
— Нынче 21 февраля! Вот вы все втроем… собрались вместе еще один раз! Помните ворожею с улицы Сент-Авуа!
Пораженные женщины сперва онемели от удивления; в следующую минуту они старались разглядеть черты друг друга. Но тут ливрейный лакей подошел к де Морсену и доложил:
— Князь, карета подана.
— Пойдемте, моя милая, — сказал князь, беря за руку дочь.
Жозеф видел, как герцогиня что-то шепнула на ухо Анатолю. Когда она ушла, он сказал жене:
— И разбитной же малый этот Анатоль! Его домино с валансьенами на платке, оказывается, княгиня, ни больше, пи меньше. Слуга сказал: «Князь, карета подана».
Но Мария стала задумчива и ничего не ответила.
Вдруг в толпе, у двери комиссара, послышались голоса: «Вот и доктор Бонакэ!» Клеманс Дюваль подбежала к нему со словами:
— Ах, доктор, маме совсем плохо! Едем, едем!
— Болезнь воротилась, мое бедное дитя?
— Да, доктор, да, внезапное нездоровье нынче вечером. Ах, едем же, едем!
— Через минуту я к вашим услугам, потому что у меня здесь еще больная.
— Нет, доктор, — сказал кто-то из служащих при театре, выходя из конторы комиссара, — во время вашего отсутствия эта дама совсем пришла в себя. Вероятно, она вышла в другую дверь.
— Ну, значит, мне нечего о ней беспокоиться. Едем к вашей матушке, — сказал Бонакэ, подавая руку Клеманс Дюваль.
Но, увидя подходящего к нему Дюкормье вместе с Жозефом и его женой, доктор радостно вскричал:
— Ты? Ты здесь, Анатоль? Я думал, что ты в Лондоне!
— Позавчера приехал, милый Жером. Что же ты ничего не говоришь Жозефу?
— Да разве это ты, Жозеф? В этом костюме? А кто же в шубке? Конечно, твоя милая жена?
— Да, доктор, она самая, — отвечала Мария, — и раз уж встретила вас, то должна сказать, что вы нас совсем забыли. Нехорошо с вашей стороны!
Но доктор не ответил на любезный упрек, зная, как беспокоится Клеманс. Поэтому он опять подал ей руку и сказал:
— Извините. Пожалуйста, извините. Это старые друзья.
Удаляясь с Клеманс, он обернулся и сказал:
— Анатоль, приходи завтра пораньше… Мадам Фово, я скоро явлюсь с извинениями, и мы помиримся. До скорого свидания, Жозеф.
— До свидания, Анатоль, — сказал Жозеф, протягивая руку Дюкормье.
Тот дружески пожал ее.
— И, пожалуйста, не поступайте, как Бонакэ: не забывайте нас, — прибавила Мария.
— Нет, нет, сударыня. Еще не один вечерок мы проведем вместе с Жозефом.
Когда супруги Фово вышли садиться на извозчика, Жозеф с беспокойством спросил жену:
— Но что с тобой, Мари? Ты вдруг стала такая грустная?
— Сейчас расскажу тебе…
Почтарь и лодочник сели в извозчичью карету и приехали домой в менее веселом настроении, чем при отъезде в Оперу.
Доктор Бонакэ занимал довольно большую квартиру во втором этаже, на набережной de l'Ecole. Окна его кабинета выходили на балкон. Доктор, хороший ботаник, любил цветы как ученый и как садовник; поэтому на балконе, обнесенном решеткой для вьющихся растений, стояли ящики для цветов, и доктор мог, начиная с весны, отдаваться любимому занятию и из окон своего кабинета видеть только цветущую зелень.
Но в эпоху нашего рассказа, т. е. в последних числах февраля, балконный трельяж был без листьев, и только в ящиках виднелись цветы, переносящие холод: кактусы, подснежники и зимние сорта гелиотропов.
Читатель не забыл, что накануне, уходя из Оперы, доктор Бонакэ пригласил к себе Анатоля на следующее утро. Ученый врач поднялся на заре. При бледном свете начинающегося февральского утра он уже сидел за письменным столом с лампой и писал, читал и делал заметки. Чугунка нагревала большую комнату, меблированную чрезвычайно просто; ее стены исчезали за полками с книгами. Доктору Бонакэ было около тридцати лет. Его пекрасивое, но умное, энергичное лицо напоминало бюсты некоторых философов древности, не отличающиеся красотой, но представляющие иногда замечательные типы. Широкий, прекрасный и начинающий лысеть лоб, нависший над глубоко сидящими глазами; резко очерченный заостренный нос; четырехугольный костистый выдающийся подбородок — таковы черты, придававшие его лицу выражение необыкновенной стойкости. Это выражение умерялось мягким, кротким взглядом