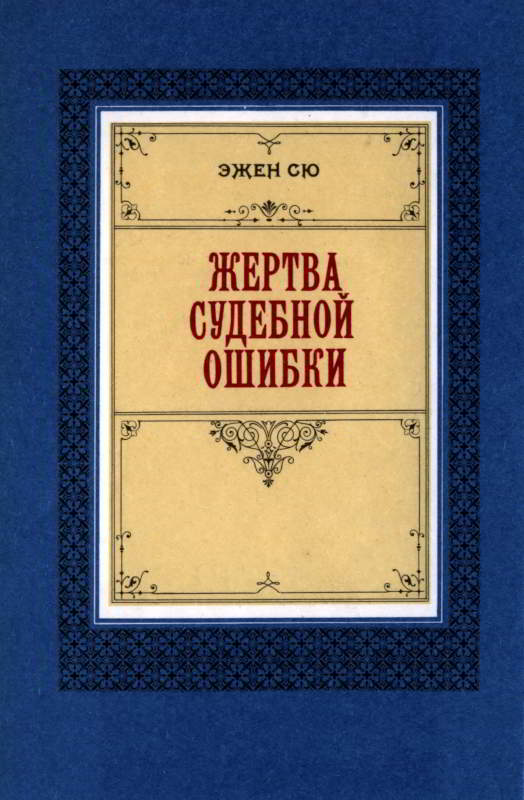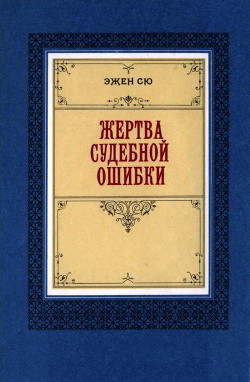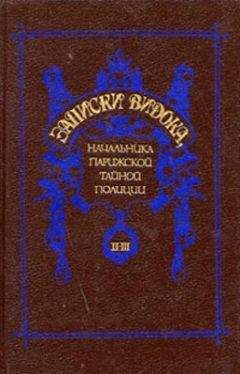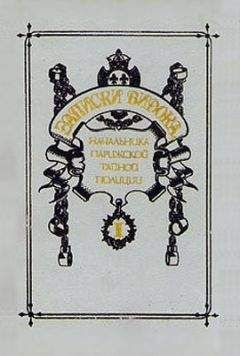и тонкой улыбкой, полной ума и добродушия. Одним словом, лицо док-тора, нарисованное художником, производило бы почти отталкивающее впечатление, и, наоборот, мужественный строгий резец скульптора придал бы ему печать мощной оригинальности. Это артистическое сравнение тем более уместно, так как один знаменитый скульптор, спасенный доктором Бонакэ, сделал из мрамора его бюст. Смело высеченный рукою гения, он, при поразительном сходстве, отличался грандиозностью, достойной античных статуй. При взгляде на бюст становилось понятным, почему доктор Бонакэ, такой невзрачный в черном сюртуке и высоком галстуке, был неузнаваемым в темном халате, ложившимся широкими складками и открывавшим шею и гордую посадку головы.
И каждый способный к симпатии человек почувствовал бы ее к доктору, увидя его в этой одежде, сидящим, как в это утро, за столом, опершись подбородком на руку, с поднятыми вверх глазами, с ясным лицом.
Старая служанка доложила о г-не Дюкормье.
— Просите скорей, скорей! — сказал доктор, спеша навстречу своему другу.
Служанка вышла. Анатоль и Жером остались одни.
— Как приятно обнять друга после долгой разлуки! — сказал доктор, улыбаясь и оглядывая Анатоля. — Вчера я мельком видел тебя, но, знаешь ли, ты неузнаваем.
— Как так, мой милый Жером?
— Когда ты уезжал из Парижа, у тебя были скромные манеры школьника, получившего первую награду, а вчера я увидал изящного молодого человека, настоящего денди, льва, как они называют. Честное слово, ты имел вид знатного барина, и я почувствовал гордость, что у меня такой красивый и хороший друг.
— Да, да, Жером, большое счастье свидеться вновь! Но кстати, что же с матерью этой бедной м-ль Дюваль?
— Ты знаком с ней?
— В Лондоне одна подруга м-ль Дюваль поручила мне передать ей книги. Но я увидал ее в первый раз вчера в Опере, когда она приехала за тобой.
— Бедная г-жа Дюваль еще очень плоха. Возврат болезни удивляет и беспокоит меня, хотя нельзя отчаиваться. Но что за ангел ее дочь! Избави Бог, если она потеряет мать: она умрет с горя. Однако не будем говорить о грустных вещах, чтобы не омрачать нашего свидания. Наконец-то я вижу тебя после четырехлетней разлуки и десятимесячного молчания, мой забывчивый друг!
— Можешь ли ты думать, что я забыл тебя? Причина моего молчания…
— Я догадываюсь и извиняю… Ты секретарь, ты постоянно должен писать письма, и отсюда твое отвращение к переписке. Итак, прощаю тебя, тем более что и я сам не безупречен; я написал только два раза, думая, что ты путешествуешь по Англии с твоим посланником. Из месяца в месяц я ждал твоего письма, чтобы знать, куда же адресовать свое. Мне надо было сообщить тебе о счастливой новости. Вот и Жозефу хотел тоже сообщить.
— О счастливой новости?
— Я женился третьего дня.
— И даже не зная, на ком, могу тебя поздравить, мой друг, со счастьем, потому что знаю твой взгляд на брак. Мне нет необходимости спрашивать: по взаимной ли склонности?
— Конечно, и она началась почти три года назад.
— Видишь, какой скрытный! В письмах ни слова о своей любви.
— Милый друг, секрет принадлежал не одному мне.
— Ты прав. Но скажи: кто же она, девушка или вдова? По твоим идеям, ты должен был жениться на вдове.
— Да, она вдова и почти одних со мной лет. Ты, конечно, знаешь ее фамилию: она родственница твоему посланнику.
— Твоя жена! Родственница графа де Морваля?
— Да.
— Твоя жена!
— Ну да. Тебя это удивляет?
— По правде говоря, это меня очень удивляет.
— Странно, — сказал доктор с добродушной улыбкой, — а меня это нисколько не удивляет.
— Как фамилия твоей жены?
— Ее фамилия была де Бленвиль.
— Вдова маркиза де Бленвиль, генерал-лейтенанта?
— Она самая.
— Как? И маркиза де Бленвиль вышла за тебя замуж?
— Да, или, лучше сказать, я женился на пей, что, впрочем, решительно все равно.
— Маркиза де Бленвиль! — повторил Анатоль с изумлением, — может ли это быть!.. Для тебя-то какова партия! Это неслыханно, невероятно!
— Вот что, мой бедный Анатоль, — сказал весело доктор, — уж не заразился ли как-нибудь твой светлый ум в аристократической атмосфере Англии? Я не понимаю, чего ты изумляешься?
— Как хочешь, Жером, но подобный брак так непривычен для общества, к которому принадлежала твоя жена…
— Это случилось оттого, быть может, что моя жена чужда привычек и нравов общества, где она жила.
— Но ее считали очень богатой. Я сто раз слыхал о ней у моего посланника.
— Да, ее муж был очень богат, и так как она не имела детей…
— Она наследовала все его состояние, и теперь ты миллионер! Точно в сказке!
— Да, что касается богатства, то тут одна фантазия и ничего больше, мой друг. Действительно, г-жа де Бленвиль имела право на наследство после мужа, по надо ли говорить, что ее первой обязанностью, и для себя и для меня, было отказаться от огромных имений маркиза де Бленвиля.
— Но в таком случае у нее самой большое состояние?
— Только приданое; кажется, восемь — десять тысяч франков. Хотя она из очень знатного дома, но, как видишь, со скромным состоянием. Однако доход с приданого вместе с моей практикой, дающей в год от 8 до 10 тысяч франков (я беру только с богатых), позволит нам жить прилично.
— Неужели твоя жена согласилась, чтобы ты оставался врачом?
Доктор Бонакэ в продолжение нескольких минут смотрел на друга с возрастающим удивлением, почти с беспокойством, но все-таки ответил на вопрос:
— Право, мой друг, ты задаешь вопросы такие же странные, как твое удивление. Я не узнаю тебя. Я убежден, что до нашей разлуки все сказанное мною показалось бы тебе простым и попятным. Как? Предположить, что моей жене могла прийти мысль потребовать, чтобы я оставил любимое занятие, которое делает мне честь и дает средства к жизни?
— Я понимаю, Жером, что мое удивление, мои вопросы должны поражать тебя. Но это происходит оттого, что я живу среди странных людей и хотя далеко не разделяю их глупых предрассудков (при этом Дюкормье горько улыбнулся), но часто невольно смотрю на вещи с их точки зрения.
— Вот почему у тебя вид знатного барина! — сказал, смеясь, Бонакэ, успокоенный объяснением друга. — Отлично понимаю, как действует привычка к известному обществу. Это все равно, как парижанин, попавший к гасконцам или провансальцам, наконец принимает их акцент. И у тебя прорывается временами аристократический акцент. Но не правда ли, ты ведь, в сущности, по-прежнему говоришь языком доброго, благородного сердца?
— Можно ли сомневаться, Жером? Но я сгораю от нетерпения узнать…
— Историю моей женитьбы? Самая простая и менее всего романтическая история, мой друг. Она в двух словах: я был