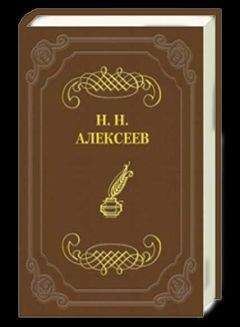— Ну, ежели хорошую цену, тогда…
— Сколько желали бы?
«Хорошо же! Я тебе поднесу. Отступишься!» — подумал князь и громко промолвил:
— Сейчас же пять тысяч червонцами на стол, и я дам ей вольную.
— Слышали, господа? Теперь ему нельзя будет обмануть меня, как того бедного старика. И на что позарился-то: за триста целковых продал свое дворянское слово!.. Ну а я — не тот старичок. Васька! — приказал Лавишев. — Притащи ларец, что у меня у кровати, чернильницу, перья и бумагу.
Челядинец побежал исполнять приказание.
— Марья Маркиановна, — обратился между тем Лавишев к Прохоровой, — выйдите теперь из вашего уголка: сейчас мы денежки заплатим — и вы вольная. И на князеньку этого вы можете прямо-таки чихать.
Дудышкин молчал, не находя, что возражать, хотя у него от злости скулы дрожали.
Требуемое было принесено. Петр Семенович небрежно вынул из ларца несколько свертков золота.
— Вот ваши деньги. Садитесь, пишите отпускную. На слово-то вам нельзя верить. На днях отпускную закрепим… Самое лучшее — завтра утречком. Вот бумага, а вот и перышко.
Дрожащей рукой князь стал выводить: «Я, лейб-гвардии конного полка поручик» и т. д. В мозгу его пронеслась только одна утешительная в этом позорном положении мысль:
«Зато деньжищ же сорвал!»
Лавишев был до конца верен себе и великолепен: когда Дудышкин, далеко не привыкший к письму, закончил отпускную и потянулся было за деньгами, Петр Семенович остановил его:
— Нет, погодите! Хоть вы и князь, а такие крючки умеете строчить, что, ой-ой, иному подьячему не под силу. Дайте-ка пробежать бумажонку. Вы ведь, князь, — голова. И чего вам было не пойти в подъячие вместо конного полка?
Дудышкин видел, что даже будочники ухмыляются, а частный, поняв, что перевес, безусловно, не на стороне князя, усерднейшим образом хихикал в ладонь. Об остальных и говорить нечего: те без стеснения и ядовито хохотали.
Но князю было далеко не так весело, как всем другим присутствовавшим. В груди у него начинало клокотать бешенство.
— Читайте, — хрипло вымолвил он, подвигая Лавишеву отпускную.
Тот прочел ее с обидною тщательностью.
— Все в порядке. Вот вам деньги, князь! Как приятно побеседовать с человеком, и не удивительно ли, как все мирно устроилось?
— Н-да, конечно… А все-таки беглых укрывать не совсем бы вам к лицу. Все же вы дворянин, — задыхаясь сказал Семен Семенович. — Ну а гвардейским офицерам, — обратился он вдруг с язвительной усмешкой к Александру Васильевичу, — красть чужих дворовых девок для непотребства и вовсе не пристало.
Кисельников вздрогнул, словно его кнутом ударили. Цельная, несдержанная натура провинциала, не испорченная столичными условиями, взяла свое.
— Что ты сказал? — проговорил он сквозь стиснутые зубы, наступая на князя, сжав кулаки и смотря на него горящим взглядом.
— Я вам не холоп, чтобы вы смели говорить мне «ты», — промолвил князь, слегка подаваясь назад. — А сказал я, что гвардейским офицерам красть для непотребства чужих девок…
Он не окончил. Послышался громкий возглас: «Получи, скотина!». Вслед за тем Александр Васильевич размахнулся, и звучная пощечина заставила пошатнуться Дудышкина.
Князь вскрикнул, растерянно посмотрел вокруг и, схватившись за щеку, пробормотал: «Что это?.. Да ведь он…». А потом, весь побагровев, крикнул:
— Сатисфакцию, сударь, сатисфакцию!.. На смерть.
— Очень рад. Ищите секундантов, — тяжело дыша, бледный как снег, ответил Александр Васильевич. — Мои будут у вас сегодня же.
Назарьев стоял с мрачным лицом.
— Так и надо этакую гадину, — проговорил он вполголоса, с ненавистью смотря на Дудышкина.
— Вы мне кровью заплатите. Оскорбить князя Дудышкина!.. О! Я вам покажу!.. Да и иным прочим все это не пройдет… Прощайте, прощайте.
— Самое лучшее дело, какое сегодня свершили, это то, что вы уходите, — крикнул ему вслед Лавишев.
— Хорошо, хорошо!.. Все вы попомните, — сказал князь, исчезая за дверью.
Следом за ним гурьбой удалились и полицейские.
У оставшихся настроение было подавленное. Каждый чувствовал, что произошло нечто важное, могущее окончиться крайне печально. Лавишев, взяв случайно оказавшиеся лишними и лежавшие на столе два червонца, подкидывал их, стараясь принять беспечный вид: верный себе во всем, он и при данных обстоятельствах не хотел изменить своей светскости. Назарьев молчал, угрюмый, почти страшный, и его глаза поблескивали. Свияжский, заложив руки за спину, прохаживался с растерянным видом.
Откуда-то из-за выступа печки, где укрылся Михайлыч, доносились чуть слышные сетования:
— И все через меня, старого черта! Вот натворил-то, окаянная моя голова.
Маша беззвучно плакала.
Спокойнее всех был сам Александр Васильевич. Он даже чувствовал себя почти довольным.
«Добрался я таки до этой канальи!» — подумал он и первым прервал тягостное молчание.
— Петр Семенович! Сделай милость, будь моим секундантом. И ты, Женя, — обратился он к Лавишеву и Назарьеву. — Позвал бы я тебя, Николай, да, думаю, неудобно: ведь, он, хоть и не желанный, а все же жених твоей сестры.
— Это верно. Неловко мне, — сказал Свияжский. — А то бы с великой радостью.
— Идет, по рукам! — воскликнул Лавишев, быть может, с несколько напускною веселостью. — Одно скверно — не знаю, как пистолеты заряжаются.
— Научим, — хором ответили военные.
— Что касается меня, то я не только секундантом, а стал бы даже на твое место на поединке, — сказал Евгений Дмитриевич.
— Так и ладно. Господа! — воскликнул Кисельников. — Зря нечего время терять, да и зазорно. Подождем полчасика, да и поезжайте-ка к Дудышкину; пусть укажет своих секундантов, да с ними и сговоритесь окончательно. Мне об одном только забота, как бы все это поскорей устроить: завтра, послезавтра…
— А что же, можно хоть сейчас. Пойду, оденусь, как подобает, да и в путь, — промолвил Петр Семенович, вставая. — Надо в полном параде, так водится. Ты бы, Евгений Дмитриевич, тоже малость пообчистился да подтянулся.
Когда он был уже у двери, к нему кинулась Машенька, воскликнув:
— Постойте! Дайте поблагодарить вас… Была я крепостная холопка, теперь человеком вольным стала благодаря вам. Дозвольте в последний раз по холопскому обычаю поспасибствовать. Больше в жизни никто этого не увидит! — И она, поймав руку Лавишева, плача осыпала его поцелуями.
Будь она обыкновенная крепостная девка, Лавишев отнесся бы к этому случаю вполне равнодушно: он привык, что дворовые, как милости, искали случая поцеловать барскую рученьку, но теперь он смутился.
— Мария Маркиановна!.. Машенька!.. Вы вольная, не годится теперь… Помилуйте!.. Да и что я такого сделал особенного? — пробормотал он и постарался выскользнуть за двери.
И в самом деле ему, эксцентричному прожигателю жизни и богачу, не казалось особенным, что он только сейчас выкинул пять тысяч золотом ради освобождения от крепостной неволи совершенно чужой и мало знакомой ему девушки.
Машенька опять укрылась в темном уголке. В полумраке было видно, как вздрагивали ее плечи от сдерживаемых рыданий.
Следом за Петром Семеновичем собрался и Свияжский.
— Знаешь, Саша, я пойду. На душе так смутно. Уж ты прости. Как-то тяжело среди людей. Горе у меня. После когда-нибудь расскажу. Когда поединок будет, ты мне сообщи, приеду. Бог сохранит тебя. Неужели эта гадина победит? Прощай, друг! — сказал он.
Они крепко пожали руки и расцеловались.
— Ольге Андреевне и вообще, конечно, ни гу-гу, — предупредил его Кисельников.
— Это само собою. Эх, жизнь! А и тяжела же ты. Прощайте, Мария Маркиановна.
Девушка протянула ему дрожащую руку.
— И все из-за меня, — пролепетала она всхлипывая. — Только зло одно людям… Сгинуть бы мне, помереть. Крепостная девка, а что натворила.
— Полноте! Вы теперь не крепостная. И зачем себя зря изводить? Вы успокойтесь. Мы еще будем с вами развеселые песни петь. Все пройдет, все устроится! — сказал Свияжский и ушел.
Вскоре после его ухода пришел Лавишев, одетый в раззолоченный придворный мундир.
— Я готов. Едем, Евгений Дмитриевич. А ты даже и парика не поправил? Ишь, он у тебя набок съехал. Поди хоть припудрись, — заметил он Назарьеву.
— Ладно, и так сойдет. Ехать так ехать. Я думаю, он еще секундантов не нашел.
— Ну, хочешь быть чучелом, твое дело. До свидания пока, Саша! Мы живо.
Они ушли.
Тихо стало в комнате. Нагоревшие сальные свечи пускали, коптя, дрожащее, длинное пламя, кидавшее неровные, трепещущие тени. Слышны были всхлипывания Маши и тяжелые вздохи Михайлыча.
Александр Васильевич присел к столу и задумался. На душе у него было смутно. Он тяжело оскорбил человека. Правда, этот человек был скверным, недостойным имени человеческого, но… Сталкиваясь с этим «но», Кисельников чувствовал словно угрызения совести.