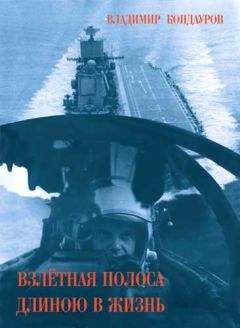— Ладно,— отвечаю ему.— Отвезу. Подумаешь делов-то. Им тоже пока спешить некуда. Так что поплавают пока с нами. Вернемся в Чарджуй — пойду в штаб и сдам всех трех.
— Поплавают, говоришь?! — еще пуще обозлился Улыбин.— А ты подумал, чем кормить их будем? У нас на них довольствия нет!
— Но не убивать же их! — кричу.
— Корми, чем хочешь! — выносит он свое последнее слово и отворачивается, вроде и знать меня больше не хочет.
Отвел я им каюту внизу, рядом с трюмом. Поделился своим сухим пайком. Спустились мы вновь к Чаршанге. Тут пересел я со своими спутницами на другой пароход, взял с собой еще одного бойца и отправился в Чарджуй, чтобы сдать женщин командованию. Доплыли без всяких приключений, если не считать, что всю провизию я пустил на женщин. Голодными в Чарджуе высадились. Сутки целые не ели. Повел я пленниц в штаб гарнизона, там какой-то наш, рязанский, недотепа не принимает их.
— А где,— говорит,— документация на баб? Чем ты докажешь, что они в плен взятые?
— Нет,— отвечаю,— у меня никакой документации, кроме моей революционной совести. А ежели мне не верите, что этих женщин мы в плен взяли, то спросите у них самих. Они-то не соврут!
— Нет,— говорит рязанец. — Вы, москвичи, люди ушлые, но меня не обманешь. Где взял этих, туда и веди. Думаешь не знаю — зачем привез их сюда? Знаю, голубчик. Ты их специально приволок, чтобы лишний паек получить. Паек получишь, слопаешь сам, а женщин в сторону.
— Ладно, дрянь ушастая! — кричу на рязанца.— Дай хоть на меня одного продовольствия! Поделюсь с ними.
А этот дьявол осмотрел мои документы и говорит:
— А ваш штаб находится в Бухаре. Поезжай туда, там и получишь продовольствие.
На этом и закончился разговор. Остались мы голодными. Тут смекнул я, что дальше предпринять. В ранце у меня было четыре пачки махорки, пара стиранного белья и две печатки мыла. Решил я загнать все это на базаре да и накормить всю свою компанию. Остановился, думаю, как это дело лучше обтяпать. Подумал, подумал и решил: тащиться на базар всем скопом ни к чему. Говорю татарину:
— Садык, ты со старухами посиди в холодке, а я с девчонкой схожу на базар. Может, что-нибудь принесем...
Но и с этой, с одной, неловко мне идти: при парандже ведь. Отсталый элемент. И вообще все обращают внимание. Стал я стаскивать с девчонки паранджу, она рукавом закрывается, а я ей говорю:
— Хватит дурака-то валять! Ты что — старуха что ли? Да ты еще дитя, а уже от мира прячешься. Разве тебе такая жизнь теперь нужна, когда идет повсюду революция? Ты мне брось это, Сиба. Так ее звали обе старухи, и я обращался к ней так же.
Сиба, конечно, понять не может, что я ей говорю. Только плачет. А я выбросил сетку молчания в арык и повел ее плачущую на базар, чтобы провиант помогла нести.
Приходим на базар. Тут еще «керенки» в ходу и эмирские знаки. Ну, думаю, я не дурак, чтобы вещи на бумажки менять. Тут и опростоволоситься можно. Веду девушку к лепешечной. Аромат тут такой, аж под ложечкой скребет. И Сиба слюнки глотает и голодными глазками по сторонам посматривает. Вынимаю я свое белье и показываю пекарю.
— Сколько дашь за подштанники и рубаху?
Тот взял белье, повертел и выносит две лепешки. Я хотел было потребовать еще, но пекарь отвернулся. Ай, ладно, думаю, черт с ним с бельем. Отломил кусочек и дал Сибе. Она начинает отщипывать и — в рот. Да быстро так, словно курица зерно клюет. А я думаю: нет, погоди, это еще не все. Тяну ее к лавке, где белую мешалду в чашах продают. В жизни ни разу не пробовал, что это такое. Слышал только — сладкая вещь. Подходим. Показываю большую пачку махорки. Он взял, повертел ее и наполнил большую пиалу патокой. Сели мы с Сибой на лавке рядышком и принялись макать лепешки в пиалу, да в рот отправлять. Насытились, веселей стало. Теперь, думаю, надо мыло променять да и топать можно с базара. Тут вдруг торговец сластей подзывает меня, шепчет на ухо по-русски.
— Аскер, продай мне девку. Зачем она тебе? Сколько скажешь, столько и заплачу...
— Ты что, гад! — закричал я на него.— Ах ты, контра проклятая! Людей покупать вздумал! — схватил девушку за руку и ходу от лавочника.
В другом конце базара променял я мыло. Тоже на лепешки. За каждый кусок — лепешку. Теперь всех можно накормить. Возвращаемся на то место, где татарин с двумя старухами остался, а их тут нет. Ни женщин, ни татарина. Неужели сбежал вместе с бабами? Начали мы с Сибой искать их, да где там. Татарин, небось, бросил и сбежал назад в отряд, а женщины тоже пустились в бега. Трусливые ведь. Тем более обе являлись женами какого-то бека Исхака...
Вечером мы с Сибой сели в поезд. Часиков через шесть высадились в Новой Бухаре, а потом и до Старой Бухары добрались. Тут всеобщее ликование, потому что эмира сбросили. Сбежал куда-то эмир Сайд. То ли в Афганистан, то ли еще дальше. Разыскал я штаб командования, доложил комиссару: так, мол, и так, захватил трех женщин. Две у татарина. Одна — вот она стоит. Куда прикажете сдать. Комиссар начинает расспрашивать: есть ли у нее мать и отец, а, может, брат есть? Может, знакомые какие сельские?
— Да нет у нее никого,— возмущаюсь я.— Одного меня и признает. А других знакомых вовсе нет.
— Тогда вот что, товарищ,—говорит комиссар.—Самого Фрунзе по поводу твоей пленницы мы беспокоить не станем. А дам я тебе записку. Ты поедешь и сдашь девчонку в детский приют.
Написал он тут же бумажку, печать пришлепнул. Приказал выдать мне и ей трехдневный сухой паек. Получили мы почти по фунту хлеба, по пачке махры, по три рыбки вяленой и отправились поездом в Ташкент.
Едем молча. Сиба, кроме имени моего, ничего сказать не может. Да и зовет-то попросту, как все меня кличут — Санька Природа. Так два слова все время и произносит. Утром достает лепешку, подает мне, говорит:
— Санька Природа, на! — А глаза у нее словно у маленькой лани. Смотрю на нее и думаю: горе ты мое, да какая же у тебя судьба тяжкая. И жалко становится.
— Вот сдам тебя в интернат, там найдешь себе друзей,— говорю ей.
Она слушает и улыбается, словно понимает, о чем говорю.
Рано утречком прибыли в Ташкент. Тут с хлебом лучше. И вообще с пропитанием хорошо, не то, что в Чарджуе. Позавтракали с Сибой в столовой около вокзала, повеселели оба.
— Ну теперь пойдем в приют.
Наняли извозчика и покатили в сторону Алайского базара. Отыскал я двор детприюта. Вошли. Хорошо тут у них. Аллейки, клумбы с цветами. Видно, еще до революции позаботились. Вошли в дом. Отыскали попечителя. Подаю ему бумагу.
— Ну что ж, спасибо вам,— говорит он.— Много теперь к нам таких, как она, безродных да бездомных поступает.— И опять повторяет: —Спасибо... Будем кормить, будем учить...
— Ну прощай, Сиба,— говорю я и подаю ей руку. Поняла она, что ухожу я навсегда и, может быть, никогда больше не увидимся. За руку схватила и— в слезы. Не хочет оставаться. Принялись мы вместе с попечителем уговаривать ее, чтобы успокоилась. Попечитель-то свободно по-таджикски объяснялся, вмиг ей растолковал: товарищ, мол, ваш — красноармеец. Ему еще воевать надо. Вот когда закончится война, тогда он приедет сюда в гости. А Сиба будет жить тут, как в родном доме, и грамоте учиться.
Успокоилась она. Сняла с воротника своего таджикского платьица какую-то брошку и подала мне.
— Возьмите, чего уж там,— говорит мне попечитель.— Привязалась, видно, к вам. Хочет на память о себе хоть что-то оставить...
Взял я брошь, хоть и за ненадобностью она мне. Поцеловал Сибу, как родную сестренку, в щеки и в лоб, и пошел. Окрикнула она меня:
— Санька Природа! Санька Природа! — И рукой помахала.
Не стану вспоминать о незначительных частностях. Потрепало меня и покидало из стороны в сторону изрядно. С Федором в Азии я больше уже не встретился. Сразу после окончания гражданской послали меня в Мерв. Принял комсомольскую волостную организацию. На первых порах не хотел оставаться тут. Все стремился уговорить высшее руководство, чтобы отпустили в родное Подмосковье, но не тут-то было. Так и остался в Мерве.
Трудно было на первых порах. Заводы хлопкоочистительные восстанавливали. С Бодряшкиным тут встретились: он мне помогал. В села ездил, поднимал бедноту на борьбу с баями.
В конце двадцать четвертого пошел разговор о размежевании народов Средней Азии, о создании республик. Тут как раз седьмая годовщина Октябрьской революции. Дел по самое горло. Ну, как и положено: я — то тут, то там. То в Иолотани, то в Байрам-Али. И вот как-то раз приезжаю в Мерв, а мне телеграмма правительственная: «Срочно быть в Ташкенте, Совнаркоме». И подпись самого председателя. Сообразил я, конечно: видимо, в связи с размежеванием на другую работу решили меня перебросить. Только непонятно, зачем для этого ехать в Ташкент? С этим нерешенным вопросом и прибыл в Ташкент.
Вечером собрались у Предсовнаркома человек сорок, а то и больше, таких, как я,— все бывшие командиры и комиссары гражданской войны. Выкликают одного за другим по фамилии и вручают каждому орден Красного Знамени...