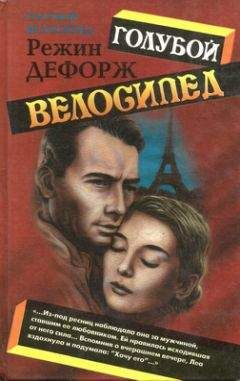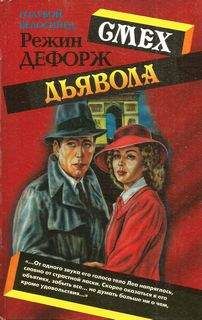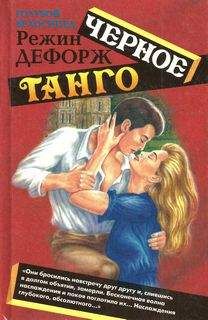А Франсуа Тавернье все не подавал признаков жизни! Невозможно, чтобы он отправился на фронт, не повидавшись с ней снова и, тем более, не сдержав обещания найти для них средство покинуть Париж. Уже наступило 6 июня.
— Вот эти нахмуренные брови явно не предвещают ничего хорошего, — сказал присевший рядом мужчина.
Леа уже хотела его осадить, как узнала Рафаэля Маля.
— Кого я вижу! Здравствуйте, так вы не уехали?
— Куда?
— Ну, хотя бы ко всем чертям!
— Знаете, дорогая, туда мы все сейчас направляемся. И не могу сказать, что это мне не нравится. Я всегда любил светловолосых чертей, особенно в мундирах. А вы нет? Хоть какая-то перемена после всех этих пузатых и розовеньких французов, после чужаков с кривыми носами.
— Замолчите, вы говорите гнусности.
— Что же здесь гнусного? Разве не из-за них, не из-за Блюма с его шайкой мы проиграли войну? Я их всех знаю, так что не спорьте. Я сам наполовину еврей.
— У меня есть приятельница-еврейка. Ее муж был арестован единственно потому, что он еврей.
— Ну и что? Вам это не кажется достаточным основанием?
— Чудовищно! — Леа вскочила.
— Ну, хорошо, хорошо. Успокойтесь. Я только пошутил, — сказал он, в свою очередь вставая и беря ее под руку.
Jlca нетерпеливо высвободилась.
— Извините, мне пора возвращаться.
— Подождите, у меня тоже есть приятельница, она поручила мне продать ее меха — великолепного серебристого песца. Я уступлю его вам за хорошую цену. Вы совершите превосходную сделку.
— Не знала, что вы занимаетесь мехами.
— В данном случае речь идет об услуге приятельнице, которой нужны деньги, чтобы уехать из Парижа. Что вы хотите! Она еврейка, и нацисты внушают ей страх. Мне скорее внушает страх скука. Если песцы вас не интересуют, у меня еще есть ковры, восхитительные старые коврики редкой красоты.
— Так вы еще и торговец коврами! А я-то думала, что вы писатель.
Лицо Рафаэля Маля с широким лысеющим лбом мгновенно утратило свое добродушно-насмешливое выражение. Усталая и горькая улыбка придала его бесхарактерной физиономии мрачноватое обаяние, которое подчеркивал пронзительный и умный взгляд.
— Да, я писатель. Писатель, прежде всего. Вы всего лишь женщина. Так что же можете вы понять в жизни писателя, в его повседневных метаниях между желанием жить и желанием писать? Они несовместимы. Я похож на Оскара Уайльда, мне хочется, чтобы талант пронизывал и мое творчество, и мое существование. А это невозможно. Я бешусь, но приходится выбирать: жить или писать. В себе, я знаю, я ношу великую книгу, но стремление участвовать в событиях нашего мира, в его страстях так меня влечет, что страдает работа. Как писали братья Гонкуры в своем «Дневнике», нужны «упорядоченные, тихие, спокойные дни, обывательское состояние всего бытия, сосредоточенность «ночного колпака», чтобы произвести на свет нечто великое, мятущееся, драматичное. Люди, которые слишком растрачивают себя в страстях или в суматохе нервного существования, ничего не сотворят и опустошат жизнь жизнью». Опустошение моей жизни жизнью — вот что со мной происходит. Вас, женщин, оберегает нехватка воображения, рождение ребенка — ваш единственный акт творения. Конечно, и среди вас попадаются величественные уроды, вроде мадам де Ноайль или Колетт, — ах, какой замечательный мастер слова эта женщина! — но редко. Истинный ум — начало по своей сути мужское.
— Ум? Мужское начало? Как вы осмеливаетесь это говорить в то время, как страна во власти лиц, по вашему утверждению, обладающих истинным умом, рушится самым плачевным образом!
— Мы побеждены высшим умом и силой, перед которой можем лишь склонить головы.
— Склонить головы перед этими дикарями?
— Мой котеночек, ваша головка хорошо работает, но она пуста. Вы лишь повторяете слова своего консьержа. Эта война, которую вы считаете варварской, станет для Франции благом. Еще в 1857 году Гонкуры — опять они! — писали: «Каждые четыре или пять столетий необходимо варварство, чтобы вдохнуть в мир новую жизнь. Иначе мир погиб бы от цивилизованности. Некогда в Европе, когда население какого-нибудь гостеприимного уголка в достаточной степени утрачивало жизненную силу, с севера ему на голову сваливались парни в шесть футов ростом и переиначивали породу». Немцы и станут теми парнями, которые в нашу обессилевшую расу вольют новую кровь возрождения. Поверьте мне, малышка, мошеннику и гомосексуалисту, внимательно наблюдавшему в литературных целях и иной раз в собственных интересах за тем думающим животным, которого называют человеком. Человеком, которого однажды Бог отринул с глаз долой. А тот, несчастная скотина, все никак не утешится. Вы помните прекрасную строфу Ламартина: «Человек — это павший ангел, вспоминающий о небесах»?
— У меня впечатление, что я слушаю дядю Адриана. Он у меня доминиканец, — насмешливо заметила Леа.
— Он сделал правильный выбор. «Человеку вроде него подойдет только ряса». Когда-то и я хотел стать отшельником. Я, еврей, принял христианство. Мое желание поддерживали друзья, ревностные католики. Но накануне пострига я бежал из семинарии и провел три дня в юношеском борделе. Ах, как там было божественно! После кислой вони семинарских подмышек, после изъеденных прыщами щек моих товарищей по комнате, неотвязная похотливость которых портила простыни и кальсоны, после утренних пробуждений, омрачаемых отвердевшей плотью под сутаной, какое это было счастье — ласкать, целовать нежные надушенные тела мальчиков-шлюх. Что вы, наверняка еще девственница, не ведающая даже пресных лесбийских объятий, в состоянии понять?
— Действительно, я этого не понимаю. Вы мне противны.
— Верно, я и есть отвратительный срамник, — со смехом воскликнул он. — Эй, мадама, не хочешь ковра? Или мех? Для тебя дам лучше цену. Ты мне нравишься.
Он состроил столь лукавую и одновременно мерзкую рожу, что Леа рассмеялась.
— Вы сошли с ума, мой бедненький Рафаэль. Сама не знаю, почему еще вас терплю.
— Потому что я вас забавляю, дорогуша, и мои вольные речи выводят вас из первозданного оцепенения. Надо расти, милашка, мы живем в эпоху, которая принадлежит отнюдь не детям.
Какое-то время они шли молча. На углу улиц Гренель и Сен-Пер Маль остановился.
— Не хотите заглянуть ко мне на чашку чая? Друг оставил мне восхитительную квартиру на Риволи. Вид на Тюильри очарователен.
— Благодарю вас, но сейчас это невозможно. Приятельница, у которой я живу, больна. Вероятно, она волнуется. Вот уже три часа, как меня нет дома.
— Значит, завтра? Обещайте, что придете. Мне хотелось бы подарить вам несколько дорогих для меня книг. Если люди хотят стать друзьями, так важно любить одни и те же книги.
Леа взглянула на него с симпатией, ей самой непонятной, которую не могла подавить.
— Обещаю. Если смогу, приду.
На конверте с грифом издательства «Н.Р.Ф.» он нацарапал адрес и номер телефона.
— Буду ждать вас после четырех. Позвоните, если не сможете зайти. Рассчитываю на вас, до завтра.
— До завтра, — ответила она, засовывая конверт в карман. И побежала по безлюдной улице Гренель к бульвару Распай.
Леа не успела даже вставить ключ в замочную скважину, как дверь торопливо открыла одетая в темно-синий костюм Камилла; костюм подчеркивал бледность ее исхудавшего лица и округлость живота.
— Наконец-то ты! — опираясь на стену, чтобы не упасть, сказала она.
— Ты совсем спятила? Почему ты встала?
— Шла искать тебя, — прошептала та, в обмороке соскальзывая по стене.
— Жозетта, Жозетта! Сюда! Скорее!
В дверном проеме своей комнаты появилась молоденькая горничная. Она вскрикнула, увидев лежавшую на полу без сознания Камиллу.
— Не стойте, как вкопанная. Лучше помогите мне.
Простоволосая, раскрасневшаяся Жозетта вместе с Леа, перенесла больную в ее комнату и уложила в постель.
— Разденьте ее, я сделаю укол.
Когда Леа вернулась со шприцем в руке, Жозетта укрывала Камиллу, на которой оставила лишь тончайшую комбинацию из розового шелка.
— Почему вы дали ей встать?
Стоявшая на коленях Жозетта рыдала у подножия кровати.
— Мадемуазель, я не виновата. Я готовила чай на кухне. Хозяйку оставила у радиоприемника, она была совершенно спокойна. И вдруг, — я чуть было чайник не уронила, — вижу ее у себя за спиной, босую, с обезумевшими глазами и без конца повторяющую; «Надо найти Леа, надо найти Леа…» Я попыталась отвести ее назад в постель, но она меня оттолкнула, сказав: «Укладывайтесь, идут немцы». Вот тогда-то я и перепугалась. Подумала, что она по радио слышала сообщение. Побежала собирать вещи, а хозяйка тем временем одевалась. Тут вы и появились… Скажите, мадемуазель, это правда, что идут боши?
— Ничего не знаю. Вызовите доктора Дюбуа. Пусть срочно приезжает.