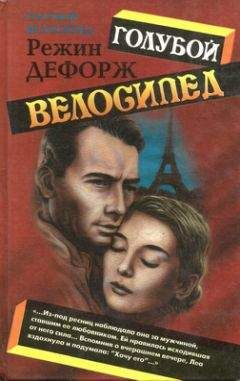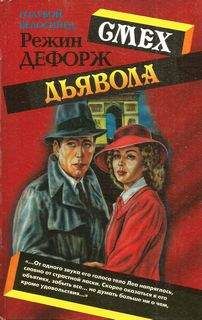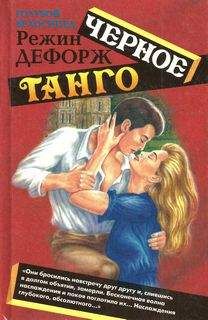Когда он оторвался от нее, слезы у Леа уже высохли.
— Должен вас покинуть, мой друг, — с улыбкой сказал он. — Спасибо за столь любезный прием. До скорого. Хорошенько позаботьтесь о себе и Камилле. До свидания.
Леа молча смотрела, как он уходит. Указательным пальцем она машинально обводила контур своих влажных губ.
И у Леа, и у Жозетты совершенно выпало из головы, что день был воскресным. Большинство продуктовых магазинов оказалось закрыто. Им пришлось дойти до Сен-Жерменского рынка, где после стояния в длинных очередях они купили дюжину яиц, курицу, кролика, колбасу, сыр, два килограмма яблок и, поторговавшись, огромный окорок.
Уставшие, но гордые своими приобретениями, с пустым кошельком (цены уже взлетели!), они прошли по улице Дюфур, держа за ручки тяжело нагруженную сумку.
Стояла великолепная погода, но на улицах было пустынно: какие-то бедно одетые старушки с сетками для продуктов, босяки, привратники, по привычке подметающие перед подъездами, двое едущих на скрипящих велосипедах полицейских, наконец, столь перегруженная матрасом, зеркальным шкафом и целой стайкой оживленных детишек машина, что невозможно было представить, как же она все-таки едет. Реннская улица напоминала свинцовую реку с пустынными берегами. Внезапно с Сен-Жерменского бульвара выехала колонна грузовиков. Под плохо закрепленным брезентом Леа заметила груды торопливо перевязанных папок.
Накрыв мебель чехлами, Леа занялась чемоданами. Укладывая плащ Камиллы, она обнаружила в одном из карманов клочок бумаги, на котором Рафаэль Маль записал свой номер телефона и адрес. С раздражением вспомнила она о своем обещании зайти, в крайнем случае, позвонить.
Из-за деревьев бульвара в комнату через окно заглядывало солнце. Оно будто приглашало пройтись. Все выглядело таким спокойным, таким летним, слышно было лишь чириканье воробьев и воркование голубей.
Леа вдруг захлопнула крышку чемодана и, захватив легкую пелерину из черной шерсти, накинула ее на короткое черное платье из шелка в красный горошек. Перед венецианским зеркалом в прихожей поправила шляпку из черной соломки. Тихонечко приоткрыла дверь к Камилле. К счастью, та спала. На кухне Жозетта собирала корзинку с едой на дорогу.
— Мне надо побывать у знакомых. Это ненадолго.
— Мадемуазель, неосторожно выходить одной.
Леа предпочла не ответить.
За исключением отдельных легковушек и грузовиков, перегруженных всевозможным барахлом, Париж был пустынен. Перейдя Сену по Королевскому мосту, она заметила в стороне Большого Дворца поднимавшиеся к небу тяжелые черные клубы дыма. Заинтригованная, она, тем не менее, ускорив шаг, продолжала путь. Сад Тюильри был так же пустынен, как и парижские улицы.
На фоне потемневшего неба выделялся совершенный, сверкающе-белый в солнечных лучах крест, образуемый Обелиском и верхней частью Триумфальной арки на площади Этуаль. С трепещущим сердцем замерла она, снова увидев в грозовом освещении часовню в Верделе. Она даже пошатнулась, с такой силой охватило ее желание оказаться там, у подножия того креста, где молилась ребенком и плакала в юности.
Она прошептала:
— Боже мой!
В ней рождалась молитва к Богу ее детства. Но постепенно она переросла в состояние благоговения перед этой красотой. С сожалением оторвалась Леа от открывавшейся картины. Никого не встретив по дороге, она подошла к дому на улице Риволи, где жил Рафаэль Маль.
Одетый в марокканский халат из белой шерсти, он сам открыл ей дверь, удивленно на нее уставившись.
— Вы уже забыли, что заставили меня дать вам обещание зайти сегодня? — спросила она.
— Где моя голова? Извините меня, мой друг, но вы застали меня за приготовлениями к отъезду.
— Вы уезжаете?
— Завтра или послезавтра. Из-за продвижения немецких войск я теряю работу. Со дня на день, точнее сказать, с часу на час, шеф Всемирного радио ждет приказа об эвакуации из Парижа.
— И куда же?
— В Тур, конечно, куда перебралось и правительство. Если хотите, заберу вас с собой.
— Не говорите глупостей. Я и сама уезжаю через два дня.
— Где-то мы окажемся через пару дней? Присядьте, пожалуйста. Не обращайте внимания на беспорядок. Не хотите чаю?
— Предпочла бы что-нибудь прохладное.
— Не думаю, чтобы у меня что-то такое было, разве что вы пьете виски? Хозяин квартиры оставил мне два ящика. Один я уже выпил.
— Хорошо. Я еще никогда его не пила.
— Чувствуйте себя, как дома.
Леа огляделась. Гостиная, где она находилась, была заставлена всевозможными китайскими безделушками, среди которых одни вещи отличались редкостной красотой, как, например, длинный лакированный сундучок цвета «скарабея», а другие, вроде пестро раскрашенных фигурок, поражали редкой безвкусицей. Она подошла к открытому балкону, выходившему на Тюильри. Рафаэль с двумя стаканами янтарного напитка присоединился к ней.
— Пью за вашу красоту.
Леа, улыбнувшись, кивнула и подняла стакан. Выпив, сделала гримасу.
— Вам не понравилось?
— Странный вкус.
— Попробуйте еще. Вы увидите, к нему быстро привыкаешь.
Опираясь на балюстраду балкона, она неторопливо допила стакан. Тошнотворный запах черного дыма заставил ее сморщить нос.
— Что это? — спросила она.
— Горит с раннего утра где-то в районе Булонского леса. Давайте выпьем еще.
Они устроились на низком, заваленном подушками диване. Рафаэль спросил:
— В вашем чемодане еще осталось место?
— Смотря для чего.
— Вчера я обещал вам одолжить несколько книг, принадлежащих, на мой взгляд, лучшим творениям мировой литературы.
Взяв три лежавших на диване томика, он на мгновение заколебался, протягивая их Леа.
— Нет, я не одалживаю их вам, а дарю. Может быть, мы видимся с вами в последний раз. Сохраните их в память обо мне. Вот «Сумерки богов» Элемира Буржа. За этот роман я отдал бы всего Флобера. «Жизнеописание. Ранее»… Пожалуй, вы еще слишком молоды для этой вещи. Это творение человека зрелых лет, и оно должно бы сопровождать личность уже устоявшуюся. Ну, не беда! Вы прочтете ее позднее, в свое время. «Любимая» великой Колетт. У героини, личности замечательной, то же имя, что и у вас. В этом романе — все величие и вся слабость женщины. Хорошо бы вам походить на нее. А поэзию вы любите?
— Да, немного.
— Немного — это недостаточно. Почитайте Нерваля. Его отчаяние — самое проникновенное.
Как не похож был Рафаэль Маль в эти минуты на легкомысленного гуляку, при случае приторговывавшего коврами и мехами, на хроникера «Марианны» или парижского гомосексуалиста! И Леа поняла, что, даря ей книги, он вручал ей какую-то частицу самого себя.
— Спасибо, — поцеловав его в щеку, просто сказала она.
Чтобы скрыть волнение, он встал.
— Птичка моя, если бы мне довелось любить женщину, как бы я хотел, чтобы она походила на вас! — с поклоном произнес он.
Леа взглянула на часы.
— Мне пора: уже седьмой час.
— Я провожу вас. По нынешним временам молодой и красивой женщине опасно одной находиться на улице.
— Но ведь город совершенно пуст.
— Это-то и опасно. Поверьте любителю темных закоулков. Скверные мальчишки всегда прячутся в местах поспокойнее. Лучше избегать встреч с ними, если специально их не ищешь. Дайте мне ваши книги, я их заверну.
Он завязал три томика в роскошную шаль красного шелка, расшитую пестрыми цветами и птицами, сняв ее с высокого лакированного черного шкафчика, инкрустированного слоновой костью.
— Держите, этот узелок чудесно гармонирует с вашим туалетом, — сказал он, протягивая ей шелковый сверток. И открыл перед ней дверь.
— Вы не переоденетесь? — удивилась Леа.
— Разве вы не говорили мне, что Париж обезлюдел? Но даже если бы по его улицам шагали толпы? Не прекрасен ли я в этой хламиде? Арабское платье мне всегда казалось верхом шика.
Вонючий дым отравлял мягкую свежесть вечернего воздуха. Рафаэль взял Леа под руку.
— Если вы не против, давайте пойдем набережными. Может, мы в последний раз совершаем такую прогулку.
Напротив Института оказались открыты две лавчонки букинистов. Владелицей одной была полная неопределенного возраста женщина, хозяином другой — старик с усталым взглядом. Они приветствовали Рафаэля как старого знакомого, не обратив никакого внимания на его вид.
— Вы и сегодня открыты? Вряд ли у вас было много покупателей?
— Увы, месье Маль, бежали даже самые смелые. А ведь как горько покидать этот прекрасный город!
— Вам бы последовать этому примеру.
— Мне, месье? Никогда! Здесь я вырос. Я родился во дворе улицы Больших августинцев, учился на набережной Сен-Мишель, потерял невинность в тени Сен-Жюльен-ле-Пувр и венчался в соборе Сен-Северин. Моя покойная жена, дочь старьевщика из Бельвиля, похоронена на кладбище Пер-Лашез, моя дочь содержит бистро на Монмартре, старший сын имеет доходный магазин напротив Нотр-Дам, а мой меньшой, когда вернется с этой треклятой войны, займет мое место. У нас умирает и душа, и тело, если нас оторвать от Парижа. Поэтому мы остаемся, не так ли, Жермена?