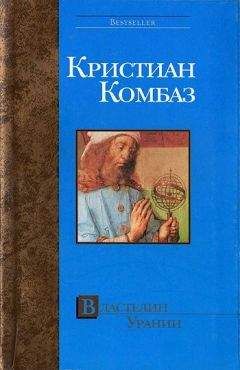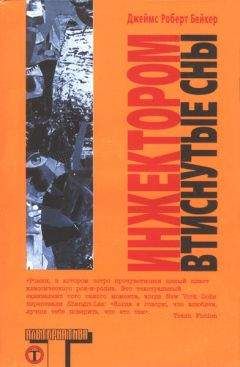Те первые письма, с коими Джордано Бруно обращался к Тихо Браге, были десятилетней давности, за эти годы он, до смерти устав от английских распрей, бежал в Германию, учился и публиковал свои труды в Виттенберге. Впоследствии Ротман несколько раз пытался замолвить за него словечко перед господином Браге, чтобы тот пригласил его к себе на остров, но бедняге Теофило (сам же Бруно и наградил себя этим прозвищем) так и не удалось уломать непреклонного датчанина. А между тем, твердил мне ученый итальянец, они братья, это кровная связь, о, сколь неразрывная! «Как у вас двоих!» – заключил Джордано Бруно, тыча перстом мне в брюхо.
На этих словах, заставивших меня призадуматься, мы в тот первый раз и распрощались. Когда же мы вторично посетили Вильгельма Хесселя, владельца типографии и друга моею хозяина, Джордано Бруно на закате дня заявился туда и возвестил, что нам без промедления надобно отправляться в дом по соседству, где он в окружении ареопага будет вести диспут о бесконечности миров и прочих занимательных материях. А перед тем мы еще потолковали о моей памяти, которая внушала владельцу типографии Вильгельму Хесселю немалое любопытство и являлась, собственно говоря, причиной моего присутствия здесь.
Вильгельм Хессель был большой эрудит, в высшей степени напоминавший лебедя как величавой повадкой, так и черными насупленными бровями. Его дружба с моим хозяином завязалась в Германии, в годы их совместного виттенбергского ученичества. Он был свидетелем ссоры, вспыхнувшей между Тихо Браге и другим знатным датчанином Мандерупом Парсбергом, той самой, вследствие которой Сеньор утратил кончик носа. За этот случай, впрочем, упомянутый Вильгельмом Хесселем лишь вскользь, Джордано Бруно тотчас ухватился, воскликнув:
– Сколь хитроумными путями ведет нас Провидение!
Засим он распространился о том, что, лишившись носа, властитель Урании сам себе закрыл доступ к суетным усладам придворной жизни. Он счел уместным заключить подсказанный разумом союз с женщиной низкого рода. К тому же, прибавил итальянец, по мнению Дансея (вплоть до преклонных лет, когда подкралась смертельная болезнь, жившего в окружении миньонов по примеру своего не в меру прославленного подобными наклонностями короля Генриха III, коего Бруно неоднократно за это порицал), астроном – не кто иной, как «евнух, оскопляющий сам себя».
Как большой знаток Англии и Шотландии, обитатели которых были ему ненавистны, Джордано Бруно намекал на короля Якова; он называл этого монарха «Ганимедом его наставника Бьюкенена», утверждая, что последний сверх того помог воспитаннику погубить свою мать Марию Стюарт. Итальянец, был осведомлен о двух визитах юного венценосца на остров Гвэн и о том почтении, какое он якобы питал к Тихо Браге. Я сообразил, что все это известно ему от Геллиуса.
Под конец, насколько я мог судить, не вполне понимая его латынь, он заговорил о ком-то мне не ведомом, именуя этого беднягу «ширмой для рогоносца»; он казался себе необычайно остроумным, его черные глаза вертелись в орбитах, бойко шныряли по лицам собеседников, как будто собственное злоречие разом опьянило его.
У жены хозяина дома Вильгельма Хесселя были две маленькие собачки турецкой породы, из тех, что богатые дамы из северной Германии целыми днями таскают на руках, прижимая к груди. С недавних пор эта мода достигла и здешних мест. Бруно стал насмехаться над такой призрачной заменой любви. Он, только что отпускавший хозяйке комплименты по поводу ее красоты, теперь, напротив, осыпал ее колкостями столь оскорбительными, что я подумал: «Эта женщина искренно, всем сердцем любит своих собак, зато мужчина вроде него таких чувств не испытает даже к родным детям».
Вильгельм Хессель, раздраженный этими наскоками, да и общей невразумительностью его болтовни, перевел разговор на удивительную память, коей меня одарила природа, демонстрируя ее посредством обычных способов: «Ну-ка, сколько всего букв в третьем параграфе? А какая там двадцать восьмая буква?» – и так далее.
Однако у итальянца было в запасе много соображений также и насчет памяти. Она была его единственным талантом, вот ему и приходилось выжимать из нее все прочие, и он понимал, что это обстоятельство ни от кого не ускользает. В трактате «De umbris idearum»[18] он описал, как использует свой дар.
«Запоминая предметы и связанные с ними понятия, вмещая в себя присущее природе многообразие форм, человеческий мозг способен осознавать конечное единство бытия, иначе говоря, познать Бога», – сказал он мне.
Его метода заключалась в том, чтобы слоги, составляющие слова, обозначать посредством образов животного мира. Он изобрел тридцать знаков, чтобы через них представить различные свойства памяти; я по сему поводу заметил, что ему, верно, стоит немалого труда заменять природное искусственным.
– О чем это ты толкуешь?
– Я хочу сказать, что ваше колесо памяти, все эти теории запоминания служат лишь затем, чтобы порассуждать о даре, который вы получили не по своей воле. Вместо того чтобы благословлять Господа, наделившего вас талантом, вы прямо-таки присваиваете его себе. Вам бы следовало молитвенно обращать свои взоры к Создателю, а вы имеете претензию властью своего разума призывать его к себе, совсем как господин Браге, на которого вы так похожи, что дальше некуда.
Подобно моему хозяину, Джордано Бруно ненавидел, когда ему противоречили; я имел случай убедиться в этом два дня спустя, когда он собрал в одном месте пятерых довольно молодых людей в плащах и тонких студенческих воротниках да сверх того еще шестого, их преподавателя, все они явились послушать его, пока он не отправился в Венецию на встречу с великим Маджини, прославленным тамошним астрономом, которого Геллиус знал лично. Можно сказать, что перед тем, как его выдали, он по примеру Христа раздавал хлебы. У нас даже был свой Иуда Искариот в лице этого гнусного Геллиуса.
Мы сошлись в маленькой таверне с расшатанными оконными рамами и балками, размалеванными красной и черной краской. Осенний дождь ливмя лил за окном, мы топтались среди скамей в помещении, озаренном пламенем четырех свечек и наполненном запахом отсыревшей древесины. При нашем появлении итальянец, который для монаха-францисканца чрезмерно ценил женское общество, поспешил отослать двух служанок прочь, в соседнюю комнату.
Там к ним не замедлил присоединиться Тюге Браге. Из ближней залы тотчас стали доноситься их смешки. Потом младшая вернулась, предшествуемая лакеем, который принес бочонок пива; ленты, что перехватывали ее сорочку, туго стягивали белое тело, но шея оставалась открытой. Я тотчас смекнул, что это скорее шлюха, чем служанка.
«Недолго мне суждено оставаться здесь с вами!» – заявил Бруно присутствующим.
Что, однако, не помешало ему потратить немалую долю этого быстротекущего времени, обрушившись на заблуждения Аристотеля, потом он внезапно распалился и стал обличать своих хулителей, предчувствуя, что таковые затесались среди собравшихся, между тем один из его учеников, итальянец по имени Эльи, крайне тощий и такой же общипанный, как он сам, с тонкими усиками и остроконечной бородкой на английский манер, повернувшись к своему учителю, показал всем два тома ин-октаво, рисунки к коим изготовил сам Бруно. Затем последний восхвалил щедрость герцога Брауншвейгского, который выдал ему пятьдесят флоринов (возможно ли, подумалось мне, что так поступил тот самый вор, который тогда в Стьернеборге отнял у моего хозяина статую Меркурия?).
Под конец Бруно напомнил, что и без того уже чрезмерно многолюдная семья бездельников, шарлатанов, шутов от науки, всяких университетских кровопийц не перестает разрастаться.
«Мы живем ныне во времена, когда царствует порча. Постигая науки, она порождает порчу в умах, та ведет за собой порчу нравов и созданий человеческого духа. А теперь испанцы, как будто им мало того, что сии гибельные измышления распространились среди нас, нашли средство возмутить спокойствие других народов, они пренебрегают и гением, топят в бездонных водах тот особый характер, кои природа в своей дальновидности одарила и выделила их, испанцы используют тиранию и насилие, чтобы посеять раздор на их землях, пока еще девственных».
У этого Джордано Бруно нрав был такой, что он сумел этой обличительной речью распалить даже самых мирных слушателей: все уже были готовы воспротивиться жестокости испанцев. Собравшиеся принялись так горланить, что помешали ему говорить.
Итальянец, именовавший себя то «бичом Аристотеля», то «Теофилом», а то и «Филотеем» и говоривший о себе, словно о герое, ведущем изнурительнейшую из битв с невежеством, хотел было ускользнуть прежде, чем кто-либо вздумает опровергать его аргументы. Некоторые из присутствующих, боясь, как бы он не сбежал, не выслушав их, решили его удержать. Перед ним заперли дверь. Какой-то студент, похожий на птенца, стал защищать Аристотеля, но его щебетанье прервал сопровождавший их мужчина постарше, напомнив, что Бруно не так давно запретили появляться в этом городе за то, что науку, удел колдунов, он предпочел вере в Господа.