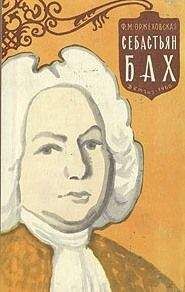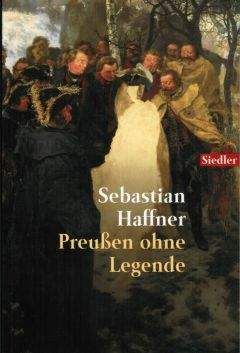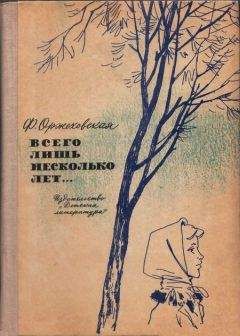– Сначала зайдем к бургомистру, – сказал Линдеман,– там нас ждет учитель.
Мальчики одобрительно загудели, так как бургомистр славился своей щедростью.
Снег уже перестал, небо прояснилось. Впереди на небе сияла большая звезда. Она казалась голубой и ласково мерцала. От нее как бы тянулся длинный голубой луч, вроде узкой дорожки прямо на землю, по которой шел Себастьян. Гулкие голоса мальчиков, их шаги, огни в домах, освещенный луной снег – все это было поэтическим дополнением к голубой звезде и к той радости, которую она вызывала. Так второстепенные подробности в картине только усиливают впечатление от главного.
Это было похоже на рисунок в книге, который показывал отец: идут люди куда-то вдаль, а перед ними на небе мерцает большая звезда. Отец сказал: это идут в город Вифлеем поклониться новорожденному Иисусу. Люди идут долго, а звезда указывает им путь. Это также напоминало уличные представления: мальчики шли со звездой и пели хором рождественскую песню.
Вифлеемский младенец родился в бедности. Судя по картинке, которую рассматривал Себастьян, младенец был завернут в тряпье. Вот почему люди, шедшие поздравить его,– волхвы, как их называли, – запаслись дарами. «Что же они принесли?» – спрашивал Себастьян. «Все, что хочешь, – отвечал отец. – Можешь вообразить себе все, что угодно».
И теперь, идя по узкой эйзенахской улице, по скрипучему снегу вместе с мальчиками-певчими, Себастьян вообразил, что все они направляются в Вифлеем. Голубая звезда указывает им путь. Новорожденный ждет их, знает, что они придут, и его умные глаза ярко блестят.
Что же несете вы, какие подарки? Теплую одежду, игрушки? Подарки бывают разные. Вот мы, например, эйзенахские певчие, несем хорал, песню. Разве это плохой дар?
Но вот мы уже пришли, и это не бедное жилище новорожденного. Это почтенный дом бургомистра. Певчих впускают в гостиную, велят им построиться в углу по росту и только маленького Себастьяна выдвигают вперед. Его чистый голос ведет за собой все другие голоса.
Важный седой бургомистр, его жена и гости благожелательно слушают. После каждого хорала они кивают головами в тяжелых париках.
Пока длится пение, Себастьян помнит понравившуюся ему картинку. Вот они пришли в Вифлеем и поют хорал. И все вокруг преображается, становится красивым и чистым. Младенец радостно протягивает вперед руки: из всех даров он выбрал песню. Впрочем, Себастьян не видит этого: музыка не вызывает в нем зрительных впечатлений, достаточно самой музыки. Но он чувствует, как теплеет, светлеет, преображается все вокруг. И это зависит от него и от его товарищей, к пению которых он чутко прислушивается.
Наконец все хоралы пропеты, и хор умолкает. Учитель низко кланяется. Бургомистр и гости хвалят певчих. После этого мальчиков и учителя уводят на кухню, и повар выдает им провизию. Он даже предлагает им поужинать. Мальчики не прочь, и учитель также. Но он боится опоздать к советнику Крамеру, который тоже ждет их. Длинный Линдеман кладет провизию в мешок, и певчие выходят.
Советник Крамер не так щедр, как бургомистр, но зато камеристка советницы выносит Себастьяну безрукавку, подбитую мехом. Это для него: сын советника вырос из нее, она почти новая…
В десятом часу Себастьян возвращается домой. Безрукавку он надел, ему стало теплее, но радости он уже не чувствует. Что же, собственно, произошло? Только то, что волхвы были обмануты. Они шли со своими дарами, чтобы преобразить бедное жилище во дворец и согреть песней дрожащего от холода мальчика. А вместо этого они попали в богатый дом, где их накормили и подали милостыню. Но нам не надо, мы совсем не так себе представляли! В первый раз он чувствует себя неловко. Более того, он оскорблен и пробует объяснить это Линдеману, который его провожает. Но Линдеман обвиняет его в неблагодарности.
– Скажи спасибо и за то, что мы получили, – убеждает он Себастьяна, – а куртка тебе очень и очень пригодится. И причем тут Вифлеем?
– Не знаю, – говорит Себастьян. Он близок к тому, чтобы заплакать.
– Странное дело! – рассуждает Линдеман. – Ты ведь не первый раз вот так ходишь с нами. Что же на тебя нашло сегодня?
– Не знаю, – опять отвечает Себастьян.
– Может быть, это от лунного света? Иногда это действует на мысли.
– Может быть…
Стараясь не глядеть на звезду, которая сияла все так же ярко, хотя и переместилась немного, Себастьян простился с Линдеманом и побежал к своему дому, где мать ждала его у остывающей печурки.
И разве это детское впечатление не было как бы прелюдией ко всей его жизни? Богатый дар принес он в мир, а вместо этого ему подали милостыню…
Продолжение главы
Он помнил, как Матесон упрекал его в пристрастии к устарелым сюжетам. Опять «Страсти», опять евангельский рассказ! Какое им дело до этой старины?
Бах не ответил тогда Матесону, да и к чему отвечать, если тот не понимает главного?
Разве суть в том, что происходило семнадцать веков назад? Может быть, евангельский рассказ только предлог, чтобы правдиво поведать о себе и своем народе?
В том году, когда были написаны «Страсти по Матфею», в Лейпциге свирепствовала горячка. Звонили колокола, похоронные процессии тянулись по улицам и заунывное пение сливалось со стенаниями и плачем.
Горячка проникла к ним в дом: у них умерла дочь, маленькая Генриетта. Беленькая, хрупкая, она странно выделялась среди черноволосых, смуглых братьев и сестер. Жила, как бы притаившись, держалась всегда возле Анны-Магдалины, похожая на нее взглядом и цветом волос. Залетевший из мрака светлый мотылек… Ее памяти Бах посвятил эпитафию – бемольную прелюдию из первой тетради прелюдий и фуг.
«Страсти» это значит страдания.
Он испытал их. Он знал ненависть врага и предательство друга. Пусть невольное предательство. Но разве один из них не сказал ему: «Я устал верить в тебя. Может быть, ты и в самом деле заблуждаешься?»
Но что это все значит по сравнению с муками народа?
… Вот почему в «Страстях» хор все время сопровождает мученика. Он родился среди народа, навеки связан с ним.
Арии это остановки, раздумья. Хор это движение… Когда он рассказал Анне-Магдалине о своем замысле, она спросила:
– Сколько же музыкантов тебе понадобится? Он ответил просто:
– Много. Человек триста, четыреста. Она сказала:
– Я понимаю.
А про себя подумала: «Это в будущем…»
Он угадал ее мысли. Но оказалось, что и в настоящем это можно исполнить. Не триста человек, а, скажем, шестьдесят.
Тогда еще не было в школе этого Эрнести, а был образованный, отзывчивый Гесснер. Он сказал:
– Не отказывайтесь, друг мой, и так трудно будет их собрать. Ведь у вас только ваши певчие. Но я помогу вам. Поверьте, шестьдесят музыкантов это не так мало!
И он принял их! И «Страсти по Матфею» были исполнены одиннадцатого марта тысяча семьсот двадцать девятого года.
Два маленьких хора перекликались друг с другом. Два маленьких оркестра поддерживали их. Слабо, хотя и чисто, звучали детские голоса. Вообще, можно сказать, что музыканты справились со своей задачей. Но сколько терзаний он испытал в тот вечер! Это также было шествие на голгофу – долгое и мучительное. Не раз хотелось ему крикнуть музыкантам: «Бросьте все, уйдите!» И уйти самому. С трудом удалось преодолеть эти приступы слабости.
Ему казалось тогда, что он напрасно согласился на этот жалкий состав. Зачем же природа наделила тебя мощным голосом, если приходится лишь шепотом высказывать свои мысли? К чему неограниченные силы, если ты скован цепями? Цепи чуть ослаблены, но даже выпрямиться невозможно. Перед ним выбор – либо обречь себя на безмолвие, либо произнести вполголоса то, что он должен прокричать на весь мир. Может быть, кто-нибудь услышит.
– Таков удел гения, – сказал ему тогда Гесснер.– Если он даже громко провозглашает истину, это не доходит до всех ушей.
Он был прав; если бы не шестьдесят, а все четыреста музыкантов исполняли тогда «Страсти по Матфею», музыка все равно осталась бы непонятной. Он слишком далеко ушел вперед.
Следуя за евангельской притчей, он не описывал событий: он обнажал то, что происходит в душах, и оттого придал музыке совершенно новое толкование. Сами музыканты, привыкшие к подобным сочинениям – ибо «Страсти» писали и другие композиторы, – признавались ему, что они многого не понимают. Гармонии, инструментовка, ритмы, даже мелодические ходы казались им слишком новыми, необычными, порой даже ошеломляющими. Единственное, что они могли сделать, это добросовестно выучить ноты. А это был немалый труд, если принять во внимание громадную и трудную партитуру.
Но если сами исполнители робко пробирались по этим тропам, то что же говорить о музыкантах и критиках, которые слушали «Страсти» впервые? Они знали заранее, что будет исполнена новая оратория, и сидели там, в церковном зале. Теперь-то волей-неволей им пришлось судить композитора и его творение. Но, как и следовало ожидать, они осудили его.