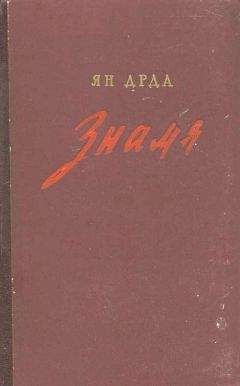Но с общинным призрением сирот у нас в Чехии уже покончено. А сейчас мы кончаем и с этой заплатанной юбкой, с этой нищей красой, которая не давала ни тепла, ни сытости. Мы хотим другой, новой красоты, которая давала бы народу не только хлебную корку с картофельной шелухой; мы хотим просторной и щедрой красоты истинной свободы.
Когда-то и я бестолку трудился на своем клочке земли: хоть маленький, да свой. И этим я обворовывал сам себя, потому что на моей халупе вместо черепицы лежала ипотека[41], в воротах стоял сборщик налогов, из нашей миски, что ни день, хлебал кулак, на которого мы работали с женой в расплату за упряжку лошадей, да ростовщик, у которого я занимал, чтобы отдать долги в проценты по долгам.
Сейчас впервые в жизни я могу с уверенностью сказать: это наше поле! И каким оно стало огромным! Когда сойдет снег, увидите: вся округа стала просторней, раздалась в ширину и в длину, короче говоря, получила новые размеры. И страну нашу мы переделываем из малой в большую, словно вместо старой хаты строим новый, просторный дом. И когда-нибудь в старости, стоя на краю могилы и подводя итоги своей жизни, я скажу: мы можем гордиться тем, что присутствовали при переселении чешского народа из общинной хижины для неимущих в богатую усадьбу.
Товарищи, наибольшей гордостью и радостью моей жизни является то, что я, Йозеф Ветровец из Вишневой, бывший батрак, пастух, а ныне председатель единого сельскохозяйственного кооператива, принял участие в работе, когда народ у нас в Чехии строил свое счастье.
* * *
Говоря по правде, нам показалось тогда, что Советская Армия свалилась в Вишневую, как с неба. Опоздай она хоть немного — от деревни остались бы одни закопченные стены, а большая часть жителей погибла бы в дыму и пламени пожарищ.
Тогда, в начале мая, на Ветреном холме и в лесах за ним закрепилась сильная часть эсэсовской армии Шернера, на которую, как говорят, до последнего часа возлагал свои надежды Гитлер. Пушки начали бить по западной окраине Вишневой. Они разрушали дом за домом, будто собирались сравнять с землей всю деревню.
Это был страшный день — восьмое мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Одиннадцать домов вдруг оказались в огне, в загоревшихся хлевах ревела скотина, а люди сидели в погребах и ничем не могли помочь, потому что вся деревня простреливалась из пулеметов, установленных на Ветреном холме. Кто пытался сделать хоть шаг, оставался лежать в пламени. Так былое нашим кузнецом Влчком.
Люди говорили: «Пришел наш конец!» А один сельский богач, — впрочем, скажем прямо, самый крупный кулак Паливец — клялся всеми святыми, что готов пожертвовать всем имуществом, остаться в одной рубашке и даже совсем голым, лишь бы сохранить свою жизнь и дожить до освобождения.
Однако недельки через две после того он показал себя… Но с такими мы уж посчитаемся!
Хата у меня без подполья, и потому я остался с женой в светлице. Проситься в погреб к соседям-кулакам мне не хотелось: я этих выжиг очень хорошо знаю. Пустить-то пустил бы, но немного погодя кулак пришел бы в мой дом и оказал: «Послушай, Ветровец, пусть твоя жена на недельку придет к нам, поможет жать, да и тебе ничего не сделается, если денек-другой поработаешь у молотилки. За тобой ведь еще должок: помнишь, как я спас вам жизнь, когда спрятал вас в своем погребе?»
И мы с женой остались сидеть в светлице. Иногда, когда стрельба несколько ослабевала, я поднимался на чердак и в слуховое окошко смотрел, что делается на улице. Два раза, когда мне казалось, что стрельба усиливается и приближается к нам, я прятался. А потом и к стрельбе привык. Немецкие пушки на Ветреном холме тонули в облаках серовато-голубого дыма, огонь — вспышка за вспышкой — вырывался из стволов: все восемь орудий били одно за другим. А несколько ниже сыпались быстрые огоньки из пулеметов, напоминая искры, которые брызжут у точильщика из-под стали, приложенной к точильному кругу.
Но вдруг в центре батареи, у самой земли, вспыхнули совсем другие огни — желтые и синие, — и в воздух взлетел фонтан камней и пыли. Сердце у меня замерло от радости: это ведь был снаряд, угодивший прямо в гущу врага!
И теперь посыпался удар за ударом: русская артиллерия мерно била по вершине Ветреного холма, как молот бьет по наковальне. А ведь мне и в голову не приходило, что наши так близко. Я послал к чорту всякую осторожность, распахнул слуховое окошко и только теперь как следует увидал все, что делалось вокруг. Вот с правой стороны от Естржаба сквозь лес продирается что-то тяжелое. Березы и вершины елей гнутся, как от сильного ветра… И вдруг один за другим, словно стадо железных чудовищ, на луг выходят пять серовато-зеленых, пятнистых, как олени, танков. Рядом с ними и позади мелькают пехотинцы, заходят прямо во фланг эсэсовцам на Ветреном холме.
Слева, со стороны Белой Горки, послышалась дробь пулеметов. Из молодых светло-зеленых вербочек, из прошлогоднего желтого тростника, из темных зарослей заячьей капусты — отовсюду доносились выстрелы, вырывались яркие вспышки. Даже из черных высоких кустов Можжевельника, стоящих на каменистых дорогах, как печальные путники, слышалось: «ра-та-та-та, ра-та-та-та…»
Я думал, что с ума сойду от радости. Высунулся из слухового окна и кричу во все горло, чтобы жена внизу, в светлице, услышала меня.
— Андулка! — кричу. — Аничка! Наши здесь!
И не успел дозваться ее, не успел перевести дух, как с каменной стенки, за которой находятся гумна, к нам во дворик спрыгнули два солдата со звездочкой на пилотках, в выцветших гимнастерках, с коротким толстым ружьем в руках. Тогда я не знал еще, что это автоматы.
Грязные ручейки пота текли у солдат по лбу, по щекам, усталые добродушные лица сияли и, несмотря на ожесточенность боя, глаза улыбались.
Не знаю, что со мной сделалось в ту минуту. Взглянув одним глазом на кучу песку под слуховым окном, я присел и — бух! — прыгнул вниз, во двор, чуть ли не под ноги одному из солдат. В другой раз я наверняка переломал бы себе все кости. Но сегодня, как видно, все должно было быть хорошо, и я только немного ободрал руки.
— Ах, чорт, экий ты парашютист, дядя! — засмеялся один красноармеец и даже подхватил меня под локоть, помогая встать.
…Много раз по ночам я представлял себе, как это произойдет, думал о дне, когда к нам наконец придут русские. Много раз я обдумывал слова, которые скажу им при встрече, чтобы они знали о нашей любви к ним. А сейчас я, не раздумывая, раскрываю объятия и обнимаю одного, другого солдата, прижимаю их к себе, а из глаз у меня капают слезы. Я целую солдат так горячо и порывисто, как не целовал, наверное, даже мою Андулку, когда ухаживал за ней двадцать лет назад.
Парни измучились от жары и жажды. Они бросились к колодцу, осторожно прислонили автоматы к срубу и выплескали на головы и на лица добрых полведра. Когда потоки воды омыли пыль и пот, оказалось, что это настоящие красавцы, как на картинке! Честное слово! Один чернявый, другой светловолосый, но оба загорелые, с большими чистыми глазами — глаз не отведешь! Мне так хотелось подхватить их обоих, отвести к себе в светлицу, накрыть стол самой красивой скатертью — с яблочками, петушками и букетиками!.. Под нашей крышей таких гостей еще не бывало!
Но парни были, как огонь. «Где фашисты?» — спросили они меня. Когда я объяснил знаками, что в деревне их уже нет, что они вон там, на Ветреном холме, ребята одним прыжком перемахнули через забор и, как ласки, исчезли во всходах ржи.
Только тут у меня затряслись колени. Сел я на крыльцо, подпер голову руками и плачу, плачу от счастья.
Через час Советская Армия разбила врага на Ветреном холме, освободила всю нашу Вишневую, и саперы принялись тушить пожар. У кулака Паливца они спасли все постройки, благополучно вывели из горящего хлева двенадцать дойных коров, а из пылающего сарая вытащили сеялку, косилку, сноповязалку и картофелесажалку. Машинам ничего не сделалось, немного только обгорела покрытая лаком краска и на ней вздулись коричневые пузырьки.
Жена кулака Паливца хотела во что бы то ни стало поцеловать руку капитана, командовавшего саперами, а сам Паливец — этакий осел! — пытался всучить ему бумажку в тысячу крон, как раньше давали пожарным на пиво. Но вскоре, в начале июня, когда я уже был в Вишневой председателем местного национального комитета, этот самый Паливец пришел и стал жаловаться: у него, мол, кони из русского обоза потравили половину луга и объели три сливы на меже, — и потребовал возмещения убытков. Я предложил ему подать письменную жалобу, а потом барабанщик огласил ее на деревенской площади. Народ едва не забросал кулака камнями.
Плут останется плутом — об этом нужно всегда помнить…
* * *
Вот это был праздник в Вишневой!
Женщины весело набивают матрацы душистой ржаной соломой, оставшейся после молотьбы цепом, вылавливают пауков по углам, гоняются за истошно кудахтающими курами, чтобы сварить суп с лапшой, желтой от яичных желтков. У всех от радости работа кипит в руках, глаза блестят: в Вишневой осталось стоять подразделение Советской Армии.