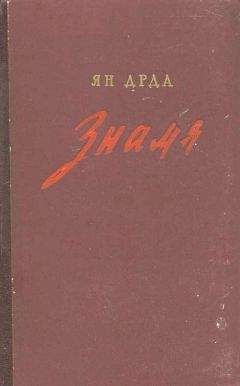Я думаю, что ему и по ночам снился хлопчатник, — так он был влюблен в свою работу. Но при этом хорошо разбирался и во всем остальном хозяйстве. Он сшил небольшие мешочки и собирал в них все: зерна нашей ржи, озимой пшеницы, яровой, твердой, усатой, ячменя, овса, гороха и чечевицы. У нас оставалось на чердаке несколько штук яблок «паненчаток», но от «паненок» у них осталось, пожалуй, только имя, потому что они засохли и сморщились, как старушки. Вы посмотрели бы на Ибрагима, когда жена их принесла! Он еще раньше несколько раз осматривал гордую крону «паненчаток» и спрашивал, что это за сорт. Я сказал ему, что это старинные чешские яблоки, которые теперь можно увидеть в садах чрезвычайно редко. Он чуть не до потолка прыгал от радости, когда получил плоды. Осторожно разрезав все семь штук, Ибрагим выбрал из них семена, зашил в мешочек и на нем написал чернильным карандашом: «Чешский девичник».
— Зачем тебе семена, Ибрагим? — спросил я. — Все равно ведь из них вырастут дички.
Ибрагим только усмехнулся:
— Ты когда-нибудь слыхал о Мичурине?
— Как же, конечно, слыхал!
— Так вот, я ученик Мичурина!
А пятый из этих молодцов — Георгий, Гога. Он был мастером на все руки: тракторист и кузнец, сапожник и повар, охотник, стрелок, гармонист, танцор… Короче говоря, это был наш общий любимец! Гармошка у него всегда была под рукой, песенка наготове. Заиграет лезгинку — и сам же притопывает, ноги ходуном таки ходят. А там, глядишь, в конце концов пустится танцевать, понесется, как ветер, лицо разгорится, глаза заблестят — залюбуешься! А какой стрелок! Сидим мы вечером у пруда Плачка, а над лесочком тянется клин диких уток и полукругом заворачивает к нам. Гога просто впивается в них глазами, потом поднимает худощавыми руками винтовку… Бац! И селезень, летевший во главе стаи, камнем падает вниз. Гога гремит затвором, снова стреляет — и падает вторая птица. Дважды подряд попасть в летящую птицу — это сумеет только настоящий охотник; так верен должен быть глаз и так тверда рука.
* * *
Один такой вечер у пруда Плачка я никогда не забуду…
Дело, однако, совсем не в утках, а в другом. Над водной гладью становилось темно, зажигались одна за другой июньские звезды, на каменистых дорогах трещали кузнечики, у берега, где растет тростник, начинался необыкновенный щучий жор. Здесь, на берегу пруда, я впервые услыхал от Гоги слова: «Красная Тортиза». Сначала я подумал, что это имя милой, что весенние сумерки навеяли на Гогу тоску.
Тоска, печаль — они были чужды Гоге. Он ведь так умел всех рассмешить, развеселить…
Но сегодня у пруда, под этим темно-синим, искрящимся звездным небом, Гога сидел тихий и мечтательный. Он выдергивал длинные травинки и задумчиво покусывал их своими красивыми ровными зубами. Мы долго молчали. И только спустя много времени я понял, что Гога думает о своем доме, а «Красная Тортиза» — это его родной колхоз на Кавказе. «Руда Тортиза» — назывался бы он по-нашему. Гога думал о том, что сейчас, вероятно, начинают уже золотиться бескрайние поля пшеницы, которую он убирал комбайном, что наливаются гроздья на лозах новых виноградников, посаженных бригадами девушек. Он рассказывал о ночных сменах трактористов, о полевых таборах, о тяжелых початках кукурузы, за уборку которой колхоз получил красное знамя мастеров высоких урожаев; он говорил о своей сестре Кето, сельской учительнице.
Я притронулся к его руке:
— Полно, Гога, ты ведь скоро уже вернешься. Будешь пить дома вино нового урожая.
Он чуть улыбнулся, пожал мою руку и говорит:
— Да нет, ты не понял меня, Иосиф Иосифович. Я не тоскую. Другое пришло мне в голову. Я думал, что вам нужно так перестроить жизнь, чтобы и здесь, в вашей прекрасной и богатой Чехословакии, людям хорошо жилось. Вы очень много страдали, но теперь вы свободны. Теперь власть в руках народа. Ты сам здесь, в Вишневой, представитель этой власти. Не останавливайтесь на достигнутом, переделывайте жизнь, переделывайте людей, иначе все: кровь, страдания — окажется напрасным!
Я слушал его, и передо мной внезапно засиял яркий свет. Да, об этом ведь я никогда не думал по-настоящему. Я успокаивал самого себя: гитлеровцев больше нет, мы свободны, значит, все в порядке. Жили мы раньше плохо… Эх, испытал я эту жизнь на собственной шкуре! Какой жестокой мачехой была для нас первая республика! А как мы будем жить теперь, через год, через два, через пять лет? Как будут жить Паливец, Каливода, Грубый — все богатые мужики, которые от века жирели, высасывая соки из всей деревни, и за одолженную упряжку выжимали две недели человеческого труда? Аграрников, продавших республику Гитлеру, правда, уже не существовало как партии. Но крупные кулаки, богатеи остались. Неужели же они по-прежнему будут сидеть на нашей шее? А ведь будет еще хуже, если они сумеют осуществить то, что задумали: они разбогатели на спекуляции во время войны, ищут и поспешно покупают машины, конские упряжки, собираются строить амбары побольше, расширяют свинарники.
А что было у нас? Чем, например, я буду пахать под озимые, если Белянка будет стельной? Пойду к Каливоде: дядюшка, одолжите? Или сам впрягусь рядом с Лыской, а Андулку поставлю за плуг?..
И вдруг все эти мысли тяжко заворочались у меня в голове.
— Расскажи, Гога, о «Красной Тортизе»! Как у вас там живут?
Мы просидели на берегу пруда далеко за полночь. Кузнечики давно замолчали, зато с первыми проблесками утра снова начали свою работу кукушки. И у меня перед глазами вырастала «Красная Тортиза» — сказочная страна за горами, за долами и все же действительно существующая, живая, как вот этот черноволосый солдат, для которого она — родина.
«Красная Тортиза»! Она и по ночам будет мне сниться… Рассказ Гоги вызвал во мне жажду, которую я долго не мог утолить…
2
Гога, наверно, давно уже попивал свое красное тортизское вино из винограда, посаженного девичьими руками. Ибрагим сидел на корточках перед — молодыми ростками хлопчатника. Баграм воспитывал телят, Ваня натягивал шины на колеса колхозных телег, а Сережа прокатывал в Сибири сталь. Наступил мир.
Когда в ноябре от нас, из Вишневой, уходила Советская Армия, я троекратно расцеловался на прощанье со всеми своими ребятами.
— До свидания! До свидания! — говорили мы, а на сердце у меня было тоскливо.
Гога уезжал последним. Он обнял меня, прижал к груди, поцеловал и сказал:
— Ну, ничего, Иосиф. Увидимся в «Красной Тортизе»!
Он вскочил на место шофера, прихлопнул дверку, и его кудрявая голова скрылась за стеклом. Грузовик повернул, и больше я не мог видеть Гогу. Может быть, потому, что помешало стекло… А может, и оттого, что глаза мои затуманились слезами.
Но зернышко, посеянное русскими, взошло у нас, — драгоценное зернышко. Оно пускает росток, и ты даже не знаешь об этом, пока вдруг однажды оно не пробьется на свет, как молодой листок из почки.
Я человек неученый, так же как многие мои товарищи: в нашей старой одноклассной школе мы получили мало знаний и во время занятий чаще, пасли коров и гусей, чем сидели на уроках.
Но эти семь месяцев, когда у нас в Вишневой гостили советские воины, были для нас университетом. Кубоушек и Вавра, молодой кузнец Влчек, отца которого застрелили эсэсовцы, Лашан и его сын Куба, который работал в рыбачьей артели, Клоужек и Бурда, Гонза и Петр Кован, Маречковы и Влашек, Млезива, Зика, Йех, Копичка, Пилецкий, Шоуна, Октабец и Говорка — все эти люди, большей частью безземельные крестьяне, а с ними и кое-кто из ремесленников уже в июле основали у нас коммунистическую организацию.
Кулаки оговаривали, проклинали нас, поп грозил нашим женам адским пламенем и вечной гибелью души, но мы не сдались. Где написано, что мы никогда не избавимся от этой юдоли слез? Правда, наш пруд Плачек и назван так потому, что деревенский люд немало поплакал, копая его из-под палки.
Но разве это стародавнее горе не должно когда-нибудь миновать?
В Праге выступает Клемент Готвальд, обращаясь к рабочим и к нам, мелким земледельцам. Мы пока еще не видали его собственными глазами, но верим ему. Наши деды говаривали: «Видна птица по полету, а человек — по речам». А речи Готвальда, когда мы слушаем их по радио, — это наши речи. Без уверток и закорючек говорит он обо всем, что есть, не ловит журавлей в небе. Обдуманно и мудро, как настоящий хозяин, указывает он, как, что и где нужно сделать. Он не сулит жареных голубей, говорит, что нужно трудиться не покладая рук и что путь, по которому мы пошли, будет не из легких. Но мы и не хотим жареных голубей. Теперь, когда труд стал свободным, руки наши сами ищут работы.
Готвальд из наших. Он родился в небольшой хате в Дедицах и, как хороший столяр, умеет по-настоящему стукнуть по шляпке гвоздя. Он прямо в глаза говорит господам, что республика будет принадлежать трудящимся, — господам, которые еще и сегодня подогревают свою панскую похлебку. Он знает что к чему: не зря он учился у Сталина, не зря двадцать лет он боролся против барских прихвостней за дело рабочих! И за ним идут все рабочие. Как же такая живая и мощная сила, как парод, может проиграть! Нет, если только мы будем дружны и если глаза наши будут широко открыты, мы добьемся своего.