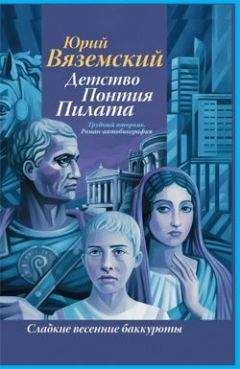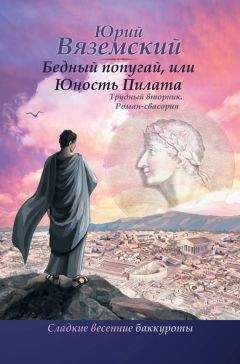Казалось бы, страшный удар – гибель любимой дочери, которую собственными руками угробил… Помнишь, ты говорил: «Фортуна не сбивает с пути – она опрокидывает и кидает на скалы»?… Да, опрокинула так больно, что чуть рассудка не лишился. Да, швырнула на скалы, так что самый вид Леона и Севера стал нестерпимым, и, бросив любимых солдат и товарищей по службе, бежал через всю Иберию, в Кордубу, где у него ни кола ни двора, ни знакомых, ни турмы. Но сбить с пути – нет, не сбила. Потому что Лусена и лошади остались. И месяца не прошло, как он снова был счастлив, утром уходя на любимую службу и вечером возвращаясь к любимой жене… «Над нравами человека Фортуна не властна». Ты прав, Сенека.
Стало быть – неуязвим. И следовало разрабатывать не болезненные, а радостные птерны. Вернее, те головы, которые вызывали ко мне неприязнь, надо было нейтрализовать или вовсе отсечь, а на их месте выявить, вырастить и подкормить (как подкармливают собак, иногда весьма недружелюбных) головы приязни, головы благорасположения, то есть положительные птерны отцовства, которые маленькая Примула, едва явившись на свет, тотчас пробудила в своем отце, а мне никогда не удавалось, несмотря на старания.
XIII. При подъезде к Илике я уже в общих чертах разработал программу своей первой махэ, как я по-гречески стал именовать ту часть пойменики, в которой поймен от сбора информации переходит к завоеванию объекта и из разведчика превращается в охотника. С твоего позволения, однако, не стану перечислять тебе пункты этой программы, ибо, во-первых, они постоянно уточнялись и корректировались на всем протяжении махэ, от Илики до Тарракона, а во-вторых, мне будет неинтересно вспоминать, а тебе – слушать, если я сразу сообщу о тайных замыслах и предполагаемых средствах.
Лишь основные принципы перечислю.
С таким сложным и трудноуязвимым противником, как Марк Пилат, нельзя было рассчитывать на мгновенную победу. Невозможно было одномоментно поразить цель, как это удалось Парису, или Персею. Надо было с самого начала приготовиться к длительной махэ, с последовательным использованием оружия дальнего, среднего и ближнего боя, то есть сначала стрел, затем дротиков и только потом меча. При этом надо было ожидать, что отдельное оружие и единичное попадание в цель не принесет мне даже намека на успех, но общий обстрел, многочисленные и разнообразные уколы и поражения, взятые вместе, как бы переполнят чашу и выплеснут из нее долгожданную победу. Военным языком выражаясь, это была осада, а не генеральное сражение.
По-прежнему следовало соблюдать строжайшую конспирацию. И шапку Аида надо было еще сильнее натянуть на голову, дабы Объект ни в коем случае не заметил, что на него ведется затяжная и планомерная охота. И в щит Персея мне теперь еще чаще приходилось прятать свой взгляд, чтобы, увидев в противнике собственного отца, не окаменеть от любви и страха.
Надо было не только подавлять враждебные мне головы, но провоцирующими уколами, игривой щекоткой и ласковыми поглаживаниями будить, возбуждать и располагать к себе радостные птерны.
Используя стрелы, дротики и надеясь на меч, нужно было на всякий случай искать стимфалийские трещотки, адамантовый серп, ремешок от шлема (см. 4.XXVIII), то есть «спецоружие».
Времени на охотничью операцию у меня было, вроде бы, достаточно, но чтобы не заиграться и не перерасходовать его, я на всякий случай заранее поставил на своем пути как бы милевые столбы, то есть решил, что от Илики до Сагунта я буду пользоваться стрелами, от Сагунта до Дертозы – пущу в ход дротики, а на участке Августовой магистрали от Дертозы до Тарракона мне придется уже обнажить меч или вместо него применить спецоружие, если мне удастся отыскать его. Потому что если я и тогда не нанесу решающего удара и чаша не переполнится, то в Тарраконе меня отдадут деду, и никакая пойменика не поможет мне продолжить путь в Германию.
Так я решил. И начал, как сказано,…
XIV. … со стрел. Прежде всего я попросил Агафона – так звали конюха, который, как ты помнишь, рассказывал мне об отце, – я попросил его научить меня ездить на лошади. А когда тот ответил, что без разрешения командира турмы, моего отца, никак не может этого сделать, мне пришлось его слегка уколоть дротиком.
«Ты, что, не любишь своего начальника?» – спросил я.
«Очень уважаю и люблю», – ответил пожилой конюх.
«Так почему не желаешь мне помочь? – спросил я. – Я хочу сделать отцу сюрприз. Доставить ему удовольствие».
Конюх задумался, почесал в бороде, а потом покачал головой и сказал:
«Нет, парень. У нас так не принято. У нас принято обо всем докладывать турмариону».
Тогда мне опять пришлось уколоть его, на этот раз немного сильнее.
«Ты ведь грек?» – спросил я у Агафона.
«Я пользуюсь латинским гражданством. Но родители мои были греками. Оба. Отец и мать», – ответил конюх.
«А знаешь ли ты, что по-гречески означает твое имя?» – спросил я.
«Знаю, – ответил Агафон. – Оно означает «хороший».
«Не только «хороший», – уточнил я. – Оно также означает «добрый», «благородный» и главное – «храбрый».
Конюх еще глубже задумался. А я грустно вздохнул и сказал:
«Ошиблись твои родители. Не то дали тебе имя».
Разговор состоялся сразу после завтрака, когда конники покинули нас и выдвинулись вперед на очередное учение. А примерно через час Агафон взял одного из коней, велел мне немного отстать от обоза и принялся обучать меня верховой езде.
Агафон оказался хорошим учителем. Приведу лишь несколько примеров. В первый же день он отучил меня бояться высоты, заставив лечь навзничь на широкий круп коня (он специально подобрал спокойного и широкого тяглового коня); и так я ездил сначала шагом, а потом тихой рысью. Через день он научил меня облегчаться на рыси. Через три – поднимать лошадь в галоп и прочно держаться на этом аллюре. Через неделю он принялся натурально издеваться надо мной: между моими коленями и крупом лошади клал монеты, чтобы я крепко прижимал ноги, и всякий раз заставлял спрыгивать с лошади и подбирать монеты, когда они падали, и снова садиться верхом и класть под колени проклятые медяки. Или просовывал мне за спину и между локтями палку, вырабатывая прямую посадку и правильное положение рук. И всякий раз, когда я чересчур натягивал или резко дергал повод, подбегал ко мне и острой палкой слегка колол мне в ногу, объясняя: «Ты делаешь больно лошади. И я тебе буду делать больно. Пока не научишься. Пока повод в твоих руках не станет паутинкой».
И так каждый день по нескольку часов до полудня я осваивал езду на лошади. И дней через десять мне стало казаться, что я уже готов продемонстрировать отцу свое мастерство наездника. Разумеется, как бы случайно попавшись ему на глаза.
Я не сомневался, что Объекту уже давно доложили о моих упражнениях с Агафоном. Но он ни слова не сказал ни мне, ни Лусене, ни конюху. Когда же я, наконец, решился «вручить подарок» и на вечернюю стоянку, где нас ожидала кавалерия, подъехал не на телеге, а верхом на лошади, отец даже не глянул в мою сторону. Хотя я очень старался, и Гней Виттий, увидев меня, восторженно воскликнул: «Смотрите, как уверенно держится! Сразу видно, что отец у него – всадник и родился на лошади!» А Сервий Колаф, придирчиво меня оглядев, заметил критически, но словно к продвинутому коннику обращаясь: «Когда движешься по кругу, надо, чтобы голова лошади смотрела внутрь, а не в сторону, как у тебя. За этим обязательно надо следить». Даже Виггаллекиец пробормотал нечто невнятное, но одобрительное. И лишь Марк Пилат, говорю, не удостоил меня ни словом, ни взглядом.
И то же случилось на следующий день.
Лишь на третий день Объект обратил на меня внимание. Он подошел к моему коню, нагнулся и что-то там сделал, отчего конь неожиданно взвился на дыбы, а я плашмя рухнул на землю, больно ударившись спиной и головой. Конь отбежал в сторону. Лусена, вскрикнув, соскочила с телеги и стала поднимать меня, потому что некоторое время я лежал на земле, оглушенный ударом. А Марк Пилат, по-прежнему на меня не глядя, грустно сказал стоявшему рядом Марцеллу:
«Не выйдет из него конника. Вперед не подался. Повод выпустил. Упал враскоряку».
«Всему этому можно научить. Твой сын. Тебе и кости в руки», – улыбнулся и заметил кавалерист.
Марка же как будто передернуло от этого «твой сын». И с обидой глянув на Марцелла, Пилат заключил:
«Когда человек не чувствует лошади и боится ее, ничему путному его не научишь. Как будто не знаешь?!»
И отошел в сторону, не интересуясь, что происходит с его сыном.
А я, когда пришел в себя, подошел к сбросившему меня коню, взял его обеими руками и, глядя в глаза, некоторое время жаловался ему и упрекал за резкое движение, затем сел на него, сделал несколько кругов на спокойной рыси, а потом долго выгуливал, разнуздал и повел к морю купаться.