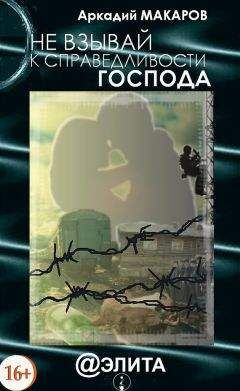А возраст ждать не стал, взял да исполнился. Вот ведь, как бывает!
Так с этой бумажкой в руках он и возвратился на ватных ногах в комнату.
Федула вопросительно посмотрел на него:
– Что, опять повестка в милицию? – с нескрываемой надеждой спросил он.
Кирилл машинально протянул ему маленький голубой листок.
– Так это ж обмыть надо! – через минуту, уяснив, в чём дело, почему-то возликовал Федула. – Страна героев рожает, а п. да – дураков! Может, ты, как Александр Матросов, грудью амбразуру закроешь! Чего ты, чудак? Медаль дадут, или орден какой! Пляши!
Кирилл вяло опустился на койку.
От своих старших товарищей он знал, что в армии страшнее дедовщины может быть только старшина, а страшнее старшины, старшина-хохол.
Так говорили все, кто отслужился.
Только один Федула, наверное потому, что служил в стройбате, в разговоры вставлял своё понятие о службе, как о самом обычном деле: «Какая разница? Что здесь – «Я – будь!», что там – «Я – будь!». Одним словом – бери больше, кидай дальше!»
Но не это теперь беспокоило призывника в солдаты, а то, что все блага гражданской жизни останутся за спиной, как остаётся пустота за плоскостью зеркала: вроде вот они, предметы, а рукой не достанешь, только пыль да паутина на пальцах.
Эх, Дина-Диана! Пыль да паутина на пальцах…
Шумно отдуваясь, в комнату ввалился Яблон с покупками:
– Во, псы-колодники! На червонец, падлы обсчитали! – разгрузил он сумку на столе и, ощерясь во весь рот, высыпал сдачу Федуле в кулак. – Одна щебёнка осталась!
Тот, не глядя, скинул мелочь в карман, потом указал на Кирилла:
– Служить в армии не хочет. Все служат, а он – никак!
– «Никак» – это в гальюне бывает, а тут явное дезертирство на почве членовредительства! Что, Кирюха, правда, тебя скоро с бубенцами провожать будем? – оживился его друг.
– Да вот… через месяц уже…
– Тогда давай лучше выпьем! В Армии как в тюряге: кто не был, тот побудет, а кто был, тот не забудет! Может, тебе по хулиганке срок месяцев на шесть сделать, тогда и в армию не возьмут? Хочешь – мы сегодня в клубе окна побьём, и ты – от службы отмазан? Перехомутаешся полгодика, и – в дамках!
Не успел Федула покрошить батон колбасы на закуску, как в дверь постучали.
– Заходи! Кто там? – отложив в сторону нож, обернулся он к двери.
– Это мы – мышка-норушка да лягушка-квакушка!
Матрёна первой ввалилась в комнату, а за ней, не то чтобы вошла, а как бы возникла из неоткуда Дина.
Если Матрена излучала счастливое довольство, то вид у молодой её подруги был какой-то рассредоточенный, какой бывает у человека потерявшего ключи от дома или что-то настолько важное, что занимает его всего без остатка.
Жизнь по советским баракам и общежитиям была настолько проста, откровенна и безыскусна, что находиться в скорлупе своих собственных проблем, ошибок, стихийных неприятностей и прочих форс-мажорных вибраций духа, было никак невозможно – слишком высока межличностная диффузия.
Это как в технологическом процессе – положил под пресс два обнажённых шлифовальным камнем разнородных листа металла: например – сталь и алюминий, надавил, как следует – и вот тебе уже биметалл для всевозможных целей в химии, энергетике и даже в космосе.
Так и в нашем случае.
Погорилась Матрёна своей новой послушнице о жизненных злоключениях, не обошедших старую бабу стороной, смахнула с не совсем трезвого глаза соринку, причитает:
– Что ж я, совсем разве пропащая, ничего не понимаю? Все думают: «Матрёна – ведьма! Сука поганая!» А я сукой никогда не была! По лагерям срока мотала не по своей воле, а по случаю. Тюрьма, хоть и большая, а кто ей рад? Там и для меня было места мало, тесно вот так, как в грудях у меня теперь! – Матрёна стиснула свои мятые груди двумя ладонями. – Не могу, дочка, как тесно!
А та, молодая да глупая, о своём толкует. Тоже печалится. Тоже тревога в груди теснится, сердце давит. Совестно ей перед добрейшей тётей Полей, перед Димой, по её вине, отбывающем свой не малый срок. Стыдно даже перед Матрёной теперь за своё такое короткое, неудавшееся женское счастье.
«Опустивши глаза долу», вздыхает сердешная:
– Я ведь мужа своего невзначай на Кирюшу вашего обменяла. Сразу забыла, за какие провинности, Дима в тюрьме оказался. Всё оставила там, – показала она головой на дверь. – А Кирилл мальчик совсем ещё… Теперь вот, – Дина смущённо запнулась, – к гинекологу, наверное, пойду. Голову кружит и чисто всё…
– Э, милочка, твои бы заботы – да мне! Устрою я тебе встречу с хорошим доктором, враз будешь, как целая! Пойдём лучше к ребятам, там Фёдор, ну, Федула этот. Вот мужик, так мужик! Квартиру купил. В казённой жить не стал, мала – говорит. Пойдём! Нашла, об чём горевать! Тётя Мотя всё устроит! Пошли!
– А, здорово, Матрона-мать! – весело приветствовал Яблон тётю Мотю и, не решаясь в таком же тоне обращаться к девушке своего неизменного товарища, услужливо ей предложил стул. – Садись, чего там!
– Здорово, здорово! Хоть и здоровее тебя видели, хлюст тамбовский! Язык-то прищеми! – ничуть не обижаясь на провокацию, в тон ему ответила тётя Мотя. – Садись, дочка, не стесняйся, – это она теперь к Дине, – мальчики нас угощать будут!
Но Дина, как стояла в дверях, так и осталась стоять, словно ей незнакома была эта комната и люди за столом.
Кирилл после получения казённой бумаги был настолько рассеян, что сразу не нашёлся, что сказать девушке, в глазах которой он видел только своё отражение и ничего больше.
Федула, ай да Федула! Мигом подскочил к девушке, взял её за руку, и плавно, как будто в танце повёл к стулу и бережно, с поклоном, усадил. Для него сегодня наступал звёздный час.
У каждого человека должен быть свой звёздный час. Только звёзды бывают разной величины…
– Федя, ласково обратилась к нему Матрёна, по какому случаю пир?
Знала, всё знала ведьма, за что угощает простоватый Федула своих товарищей. Только теперь она решила показать Дине состоятельность и жизненную надёжность человека, которого она, по сговору с Федулой пророчила ей в женихи: «Ну, и что, что не красавец, зато хозяин какой! Трудяга! И по женщинам не ходок. Нет, не ходок… Зато никто его от тебя не уведёт. Знаешь поговорку: «Печь не уведут, а мерина не уе…т».
Дина в такие моменты прыскала себе в ладошки, краснела и никак не соглашалась на убедительные и, в общем-то, справедливые слова пусть циничной, но прожившей немало на этой земле, сводни.
Федула при Дине сразу же преобразился, вытер вспотевшую от напряжения шею платком и небрежно посмотрел на стол, где громоздились бутыли толстого стекла с дешёвым вином и рваные ошмётки варёной колбасы:
– Какой это пир? Вон они, – Федула махнул головой в сторону двух друзей, – так захотели… А мы и в ресторан могём. Что, пошли? – обратился он почему-то с вызовом к Кириллу, словно Федула хотел угостить только одного его.
– А не дорого тебе будет, Федя? – снова подластилась Матрёна к Федуле. – Накладно все ж…
– Что, деньги? Зло! – философски определил Яблон. – Веди, Сусанин, так и быть!
Матрена радостно, как девочка, которой предложили что-то вкусненькое, потёрла ладони.
– Что-то стало холодать!
– Не пора ли нам поддать?! – в тон ей ответил тот же Яблон, который уже успел разлить по стаканам красный суррогат вина.
В то время, все портвейны и вермуты райпотребсоюзного происхождения были только суррогатными.
– Выпить что ли для разминки? Ну, с Богом! – Матрёна, не дожидаясь остальных, шумно вздохнула, и содержимое стакана исчезло в её густо, не по возрасту, накрашенных губах.
Остальные поддержать её не решились. Зачем здесь переводить «продукт», когда можно со вкусом посидеть в соседней рабочей столовой, превращённой в вечернее время в простенький кабачок для непритязательной местной публики?
Даже заядлый выпивоха, каким был Николай Яблочкин, и тот брезгливо отстранил от себя поспешно налитый стакан:
– Политуру не пьём!
Дина, чем-то обиженная, сидела, обособлено, не подавая никаких признаков своего присутствия.
И только Кирилл, сам не зная почему, крепко зажал в горсти гранёный стакан, как зажимают в атаке последнюю гранату – весь он был уже там, в строю, в походе, в боевой шинели…
– Ручки зябнут, ножки зябнут – не пора ли нам дерябнуть! – Кирилл зло посмотрел на сияющего Федулу: – Да пошёл ты со своим рестораном! Мне и тут не тесно!
– Не на-до! – Дина вдруг обернулась к Кириллу и протянула руку, чтобы взять у него полную до выщербленного края эту проклятую посудину. – Не хорошо, Кирюша!
– Кому не хорошо, а мне как раз! – он почему-то разозлился: и на Дину, которая была вроде как виновата, что сегодня так радужно светится этот дятел Федула, и что старая Матрёна ехидно щуриться на него своими красными, изъеденными трахомой глазами, и за свою повестку в кармане.
Дешёвый винный напиток, называемый тогдашним пьющим народом «вшивомор», поднялся выше головы Кирилла и затопил его.