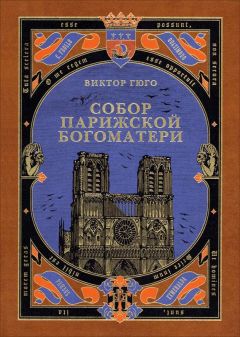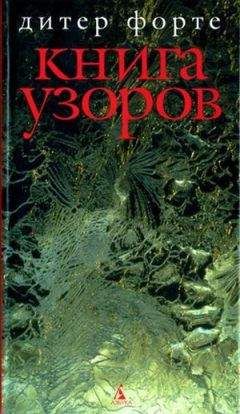ВЕРА: Вот… все пошло шиворот-навыворот у нас. И в Москву не переехали этот год. А уж октябрь…
КУЗЬМИЧ: Да-с, октябрь… 41-80… А потом будет ноябрь 17-14… А потом — декабрь… А в ноябре будет праздник… 8-63… И товарищ Сталин на трибуне будет стоять… 2-13… Под дождем. Небось, продрогнет — ну-ка постой целый день.
ВЕРА: Аполлон Кузьмич, отчего это у вас ноги разные?
КУЗЬМИЧ: Это не ноги, это ботинки разные. Один — тридцать девятый, другой — сорок третий… Бориса Федоровича… (щелкает косточками). Сорок третий!… сорок третий!… Опять сбился… Начинай, Кузьмич, сначала. Данке шон, Верочка!
ВЕРА (прислушиваясь): Дождь… ветер. У нас в деревне уже посиделки начались (тихо напевает):
В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха
Под окном сидит…
Аполлон Кузьмич, вы жили в деревне?
КУЗЬМИЧ: Нет. Я почетный, потомственный мещанин. Дед мой был пьяница, сапожник Чечкин. Нраву весьма крутого!… Заготпушнина…
ВЕРА: Какая пушнина?
КУЗЬМИЧ: Нет, это счет из Заготпушнины на 2.56. Однажды дед мой, сапожник Чечкин, едва не решил жизни дьякона Иконникова сапожной лапой… 11.89… за то, что дьякон в отсутствие деда моего весьма недвусмысленно посещал мою бабушку… 33.16…
ВЕРА: А ведь Елены-то Николаевны всё еще нет.
КУЗЬМИЧ: Не наше это дело, Верочка… Ты в колхоз-то этой зимой поедешь? Своих-то навестить?
ВЕРА: Не знаю… А Алеша день-деньской лежит сегодня. Всё думает, думает. Аполлон Кузьмич, отчего это женщины любить не умеют?
КУЗЬМИЧ: Как это? А вот посмотри на Наташу: Евгений Осипович в тюрьме, а она… Итого 11.99… Теперь двух копеек не хватает…
ВЕРА: Нет, не то… Почему одни умеют, а другие хвостом — туда-сюда?
КУЗЬМИЧ: Натуры такие. А чаще — люди впутываются.
ВЕРА: Как это?
КУЗЬМИЧ: Люди, Верочка, народ, в общем злобный. Им чужое горе видеть всегда приятнее, чем чужую радость. Разрушать люди любят. Знавал я одну преподлейшую старуху; умница, но жестокая — не приведи Господь. Сама про Христа говорит, а семью чужую, как червь, точит. На моих глазах развела людей и погубила.
ВЕРА: А что ж другие-то смотрели?
КУЗЬМИЧ: Другие? Другие радовались. Я ж тебе сказал, что чужое горе видеть приятно… Вот так, наверно, кто-нибудь и Леночке нашей нашептывает: «Брось его… брось его… на что тебе калека?»
ВЕРА: Да Алеша лучше их всех!
КУЗЬМИЧ: А разведут… Нет, отложу до завтра — совсем запутался. Трех рублей не хватает (собирает бумаги). Разведут. Так уж заведено. Спокойной ночи, Верочка… Шла б и ты.
ВЕРА: Сейчас.
КУЗЬМИЧ: Гуд-бай. Данке шон (зевая уходит).
ВЕРА (подходит к комнате Алеши, прислушивается): Не спит. Нет, не спит.
НАТАША (входит в пижаме): Вера, что ты там?…
ВЕРА: Я… ничего. Показалось, что Алексей Федорович звал.
НАТАША (ищет что-то в буфете):Ах, Верочка, всё-то я вижу, всё-то я понимаю, — но помочь ничем не могу. Ничем, Верочка… Слушай, ты не видела тут такого пузыречка с притертой пробкой? Маме плохо… Ах, вот он.
АЛЕША (входит): Кто у меня Диккенса забрал? Ты, Наташка?
НАТАША: Я.
АЛЕША: Так верни назад!
НАТАША: Не ори. Маме плохо.
АЛЕША: Мне тоже плохо (садится).
НАТАША: Так иди спать.
АЛЕША: Не хочу и не могу… Верни Диккенса.
НАТАША: Да отдам я тебе твоего Диккенса (уходит).
АЛЕША: Верок, ты что вяжешь?
ВЕРА: Носки.
АЛЕША: Зачем?
ВЕРА: Чтоб носить.
АЛЕША: Хороша и без носков.
ВЕРА: Это я вам… К зиме.
АЛЕША: Ты мне лучше петлю свяжи. Умеешь петли вязать? (Пауза). Твой колхоз как называется — «Красная борона»?
ВЕРА: Нет.
АЛЕША: Ну, «Красный хомут»? ВЕРА: Опять нет…
АЛЕША: Знаю: колхоз «Напрасный труд».
ВЕРА: Да нет же… (повеселев). «Красный пахарь»!
АЛЕША: Ну, вот видишь — я чуть-чуть не угадал (туза). У вас в колхозе в валенках ходят?
ВЕРА: Зимой — в валенках.
АЛЕША: Врешь. Летом — тоже.
ВЕРА: Нет, летом в валенках не ходят.
АЛЕША: Вообще не ходят, а в вашем колхозе ходят… И девки у вас замуж не девками выходят.
ВЕРА: Ну, уж это оставьте!…
АЛЕША: Чего там — оставьте! (идет к буфету, открывает дверцу). А потом мужья бьют их смертным боем. И поделом!… (достает бутылку и перевертывает ее). Кто выпил?
ВЕРА: Федор Федорович вылил вон.
АЛЕША: Тогда вот что: спустись в подвал и там за старой шиной, что в углу — найдешь. Да поскорей!
ВЕРА: Алексей Федорович, не надо… Меня ругать будут…
АЛЕША: Я тебе что сказал! Видишь — у меня нога… Не самому же мне идти (Вера угодит, Наташа входит).
НАТАША: Вот твой Диккенс (подает книгу). Ты чего на нее кричишь?
АЛЕША: Да ну ее к чорту!… Что с мамой?
НАТАША: Как всегда — сердце шалит.
АЛЕША: Отец дома?
НАТАША: Дома, там, у мамы (садится). Дай папиросу.
АЛЕША: Куришь во-всю? На. Держи… (Закуривают). «Голос Америки» слушала?
НАТАША: Да.
АЛЕША: Ну, что?
НАТАША: Еще два чехословацких видных коммуниста сбежали в Западную зону.
АЛЕША: А о Смите-то что?
НАТАША: Повторили утреннее сообщение. На второй протест советское правительство всё еще не ответило… А потом мы ничего не разобрали — начали глушить…
АЛЕША: Да, дело, видно, неважнецкое… Эх, придрались бы америкашки к случаю, да как двинули бы!
НАТАША: Нет, Алеша, не хочу я войны.
АЛЕША: А я хочу! Чтоб смели всё к чортовой бабушке! Ни людей, ни любвей, ни измен, ни доносов, ни допросов! — Хорошо!
НАТАША: Ух, как вспомню эти допросы! Вот, знаешь, наглость-то! А Северцев — просто патологический тип.
АЛЕША: А микрофонов в избе нет?
НАТАША: Нет. Я каждый день осматриваю. Да и новый шофер парень, по-моему, ничего…
АЛЕША (задумчиво): А Елены опять нет… Двенадцатый час.
НАТАША: Ну, может быть, задержалась где…
АЛЕША: Ах, сестра! Хоть ты меня не обманывай и не утешай… (Пауза). Была в тюрьме?
НАТАША: Да. Всё по-прежнему. Передачи принимают, но свиданья не дают.
АЛЕША: Укатают его лет на двадцать… Расстрелять-то, пожалуй, не расстреляют.
НАТАША: Ты думаешь — в лагерь?
АЛЕША: Наверно.
НАТАША: Что ж? Я его не брошу.
АЛЕША: Поедешь за ним?
НАТАША: Конечно. Поселюсь где-нибудь возле.
АЛЕША: Скажи на милость — какая декабристка нашлась! Мне бы такую жену.
НАТАША: А то — поступлю вольнонаемной служащей в самый лагерь.
АЛЕША: Не разрешат (пауза) Да… Мне бы такую жену (пауза) . Слушай, Наташа, идея! Если Женьку пошлют в лагерь, скажем — на Колыму, то надо ему удрать заграницу. Там — Аляска.
НАТАША: Чепуха! Разве удрать так просто? Чепуха.
АЛЕША: Ну, хорошо, Меня вот что интересует: допустим, что ему удалось бы удрать и добраться до Америки. Ведь тогда вы никогда… никогда больше не встретитесь… Вот как тут?
НАТАША: Знаешь, когда любишь, то самая большая, по-моему, радость — сознание, что любимому человеку хорошо… что он вне какой-либо опасности, независимо от того — рядом он с тобой или за тысячи верст. И если уж судьба решила так, что мы не можем быть вместе, больше того: Жене грозит многолетнее заключение, то побег заграницу — лучший исход. Родственников у него нет, наказывать некого… только — всё это мечты… мечты…
АЛЕША: Умница ты, Наташка, и сердце у тебя золотое. А вот с логикой-то у тебя того… На поверку-то она, пожалуй, выйдет бабьей. Например: вот я, скажем, сильно люблю Елену, и вот я сознаю, что сейчас ей очень хорошо с любовником… И что же: это самая большая для меня радость? Сознание-то это, что любимому человеку хорошо? Вот как тут по твоей-то бабьей теории?
НАТАША: Циник ты.
АЛЕША: Уж какой есть… Передай-ка мне гитару.
НАТАША: Поздно, Алеша.
АЛЕША: Я тихонько (берет гитару и тихо наигрывает). Борю убили… Глупо…
НАТАША: Так мы и не знаем, как он погиб… Я уверена в одном, что погиб он героем.
АЛЕША: Отчаянная башка… Ах, Борька, Борька…
(Тихо начинает наигрывать песенку Широковых, запевает; Наташа поддерживает, и незаметно для себя они пропевают всю песню — звучит она не так, как в первом акте: бодро и уверенно, — а грустно, с налетом некоторой растерянности и трагизма).
(Пауза)
АЛЕША: Боже, сестра, как мне тяжело! Если б ты знала, как мне невыносимо тяжело…
НАТАША: Знаю, Алеша… Милый Алешка!(обнимает его).
АЛЕША: А как светло, радостно начали мы нашу жизнь… И вот…
НАТАША: Я вчера ночью слышала, как отец плакал. Алеша, ведь он перед нами маску носит. Ему всех тяжелее. И ты не обижай его (отходит, наливает, из графина стакан воды). Хочешь?