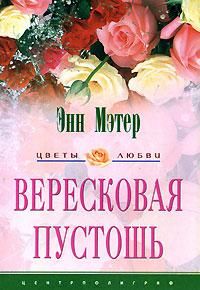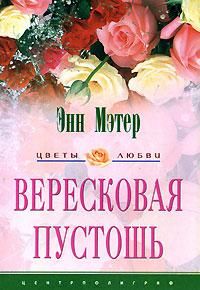— Позвольте мне вас познакомить. Джон Тейлор, это — Теннисоны.
— Целая куча Теннисонов, — пробормотал один из них.
— Возможно, вы слыхали про Альфреда Теннисона. Альфред, это Джон Тейлор, который некогда издавал Китса, Хэзлитта, Лэма, беднягу мистера Клэра и, должен признать, один из моих собственных трудов, посвященный классификации видов безумия.
— Я о вас наслышан, — заверил Тейлор Теннисона, который поднялся, чтобы пожать ему руку. — Вас называли кокни, насколько я помню, и сравнивали с Китсом [21].
— Какой же я кокни, я ведь родом из Линкольншира. Но меня обвиняли в той же примерещившейся им чувственности и лености. Слишком много чести для меня, знаете ли, пусть они сами того и не желали. И, конечно же, особая честь для меня — пожать руку другу Китса.
— Знакомство с ним было само по себе честью.
Альфред Теннисон был высок и смугл, длинноног и большерук, а его бронзовое лицо украшал широкий рот. Тейлор, сравнивая его со своим покойным другом, видел в нем иное томление, своего рода усталую праздность, знаменующую его присутствие в этом мире. Все это было так не похоже на Китса, но виделось и кое-что общее — возможно, вот это исполненное смысла молчание. Вместе с тем Теннисону недоставало стремительности Китса, его разящего гнева.
— Вы издаетесь у Мюррея, верно? Очень достойный издательский дом. Надеюсь, опубликуете что-нибудь еще. Не позволяйте журналам вас расхолаживать. Не снисходите до их варварских развлечений, до этой пустой болтовни по кофейням.
Теннисону доводилось слышать голос старшего поколения из этаких «кофеен». И тем более важна была для него поддержка старшего товарища, знававшего истинных поэтов.
— Благодарю вас. Не думаю, что им под силу меня остановить. Больше я попросту ни на что не гожусь. А вы сейчас издаете стихи?
— Увы, нет. Они совсем перестали окупаться. Как вы знаете, нынешнему читателю подавай что-нибудь полезное или, на худой конец, прозу. Но поэзия выживет. Цивилизация без нее невозможна. — Внимание Тейлора невольно привлек модный серебряный чайник со сверкающими боками. Слова Элизы Аллен обрели плоть: они и правда процветают. — Она не будет окупаться, но выживет. По крайней мере, хотелось бы верить. Да, кстати, что касается денежных вопросов. Доктор Аллен, вы не могли бы уделить мне немного времени?
— Разумеется.
— Рад был с вами познакомиться. — Джон Тейлор поклонился собравшимся.
Теннисон проводил его глазами. Маленький человечек, не то чтобы слишком умный, с усталым добрым лицом. Но — друг бессмертных, один из немногих выживших среди тех, кто принес свою жизнь на алтарь поэзии.
После того как надежды ее развеялись как дым, а на глаза то и дело наворачивались слезы, Ханна вознамерилась невзлюбить семейство Теннисонов — если бы отец так не настаивал, она бы вообще к ним не спустилась, — но ничего у нее не вышло. Леди были умны и неординарны, в высшей степени решительны и хороши собой, особенно красавица старшая сестра Матильда, которая могла бы дать фору самой Аннабелле. Восхищение Ханны лишь усилилось, когда она увидела, что Матильда ходит медленно, чуть припадая на одну ногу. А когда они заводили речь о своем доме, он представал тихой пристанью, о какой она мечтала для себя: множество книг и животных, игры собственного изобретения, никаких тебе сумасшедших и никакого производства прямо рядом с домом. Абигайль тоже понравилось то, что донеслось до ее ушей: до чего же здорово, когда у тебя есть ручная обезьянка или огромная собака, которая возит маму в коляске. Она тотчас же затребовала у отца обезьянку, но тот отказал со смехом, словно бы счел саму эту идею нелепицей, не стоящей того, чтобы о ней задуматься. А ведь их тут вполне достаточно, чтобы позаботиться об обезьянке. Вот было б весело! Ханна старалась не смотреть на Теннисона. Поначалу она обвиняла его в равнодушии, потом — в том, что он не устоял перед чарами Аннабеллы, которая не оставляла равнодушными даже самых тупоумных. Но изгнать своего чувства полностью она, конечно же, не могла. Презрение болезненно переплелось в ней со страстным томлением. Она разглядывала скатерть. И прихлебывала чай.
Мэтью Аллен вернулся к гостям, надежно заперев деньги Тейлора. Ему нравилось держать в руках деньги, нравилось иметь их в достатке, но еще больше в самой глубине души он любил рисковать. В том, чтобы поставить всё на кон, была своя затаенная сила, заряжавшая энергией все тело, а если случалось выиграть, победа переживалась куда острее, чем можно было себе вообразить. Из-за подобных помыслов он и оказался по молодости лет за решеткой, но теперь — теперь у него были все эти здания, больные, безупречная репутация, и уже начинали поступать заказы на машинную резьбу. Он поднял новый чайник высоко над чашкой, и чай полился длинной, звонкой дугой. К вечеру в его проект вложились уже все Теннисоны, за исключением Септимуса, чьи нервы решено было поберечь, оставив его в стороне от этой финансовой авантюры.
Джон почувствовал, как на плечо ему легла чья-то теплая рука. Это прикосновение, эта тяжесть были ему знакомы. «Пэтти!» — окликнул он, оборачиваясь.
— Мне подумалось, тебе тут одиноко, — сказала она. — Темно-то у тебя как.
— Да, у меня темно. Мне одиноко. Тут только и есть, что это крохотное окошко. Звезды, облака, и ни тебе птицы, ни живой твари. Как в аду. Мне одиноко в аду, Пэтти. Ночью, в темноте, двери открываются. И начинается.
— Тише, тише. Не хочешь узнать, как там твои дети?
Пэтти присела рядом с ним на жесткую, дурно пахнущую кушетку и склонила его голову к себе на плечо — до чего же утешительно действовала на него ее сила. Тяжелыми холодными пальцами Пэтти придерживала его лоб. Он обвил рукой ее мягкий живот и ухватился за платье с другой стороны.
— Дети в порядке, — произнес он. — Я знаю. Они свободны. Джон плотничает на железной дороге. Чарльз пошел в клерки к тому адвокату. Анна Мария скоро выходит замуж. Я хочу домой.
— Чего ж ты хочешь домой? Не сказала бы, что мы там свободны.
— Вам не затыкают рот. И не держат взаперти.
Она покачала головой.
— Земля огорожена. Никуда-то не пойдешь. Ни тебе шага влево, ни шага вправо. Общая земля нынче в собственности. Бедняков гонят, и цыган.
— Богач — тиран, а мы все его узники. Беднота никому не нужна. Ну, что мы можем? Бунтовать, жечь стога. И ничего не будет. Выселят. Весь континент — тюрьма.
— Здесь ты в безопасности.
— А вот и нет. По ночам…
— Тише. К тебе кто-то пришел.
К постели приблизилась Мария.
— Ты! Но как ты вошла? Сквозь стены?
— Какие стены?
Джон рассмеялся.
— Вот невинная душа! Даже и не заметила.
Пэтти не отняла руки, а Мария, прелестное дитя, ростом не выше его сидящего, подошла к нему и запечатлела поцелуй, золотой пушинкой опустившийся прямо ему в душу.
— Сядь рядом со мной, — сказал он. — Сядь рядом со мной. Ну, вот мы и вместе.
Джон сидел меж двух женщин, взяв каждую за руку и соединив их руки у себя на коленях.
— Мы вместе, — повторил он.
Тепло их душ перетекало из одной в другую, они дарили друг другу зажигательные улыбки, то и дело переглядывались, и вдруг на правую руку Джона упала теплая капля. Капля крови, что тотчас же растеклась по тончайшим складочкам его кожи. Подняв взор, он увидел маленькую ранку под левым глазом Марии.
— Ох, — произнес он.
— Зачем ты так со мной? — спросила она. — Я ведь всегда была с тобой обходительна.
— Но я же был ребенком, — возразил он. — И я не нарочно. Ты казалась такой прекрасной, когда гуляла в саду. Мне захотелось к тебе прикоснуться. Но ты была так далеко. По-тому-то я и бросил в тебя орех.
— Взгляни. Все прошло. — Ранка исчезла прямо на его глазах, и кожа вновь стала гладкой, словно водная поверхность.
— Красота!
Мария ответила ему долгой улыбкой. И не отвела взгляда. Она излучала любовь.
— А ты скучаешь по своей сестре? — спросила она.
Джон почувствовал, как его лицо морщится.
— Да, — сказал он. — Но меня никто никогда не спрашивал. — Он вновь ощутил себя незащищенным с одного бока, кожу до боли холодил зимний ветер, щипал мороз.
— О ней просто не знали. Она лишь мелькнула в этом мире. Да и ты ее не знал.
— Она была младенцем, моим близнецом. Куда ее дели?
Ответ нашелся у Пэтти:
— В гроб одного богача. Она умерла до крещения. И ей нужно было хотя бы тайком проскользнуть внутрь церковной ограды.
— Стало быть, она спасена. Но ведь она могла бы быть здесь, с нами. И мы с ней любили бы друг друга.
— Вот ты так говоришь, — откликнулась Пэтти, — а сам в детстве любил побыть один, уйти от всех да помечтать.
— Это потому что ее не было!
— Вот она, — сказала Мария, вложив ему в руки сверток со спящим младенцем. Закрытые глаза с лиловатыми веками, сжатые пальчики, курносый сопящий носик, мягкий завиток волос. Теплая головка малышки легла в его левую ладонь.
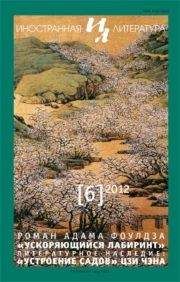

![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)