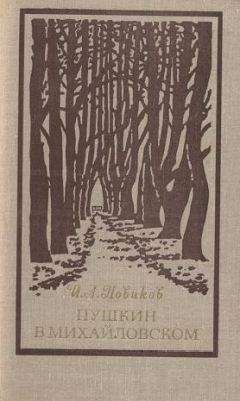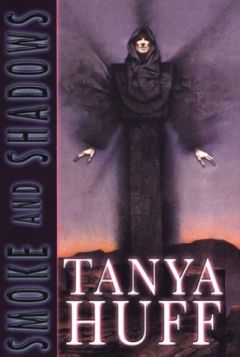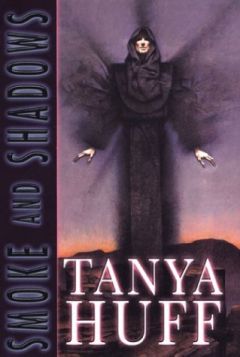— А к обеду вернетесь? — вдруг осмелела Евпраксия.
Пушкин только рукою махнул:
— Не знаю!
Телега загромыхала и скоро исчезла из глаз за холмом городища Воронича. Осталось в глазах, как горячий седок порою приподнимался, опираясь руками о грядки, будто это могло ускорить езду. Да, он был простой, но и какой же особенный!..
«Как-то все еще там обернется!» — со вздохом про себя подумала Прасковья Александровна и на вопрос подошедшей Анны Богдановны, что же делать с грибами, коротко бросила:
— Мариновать!
Какой уж там обед!.. Предстоящая эта встреча сына с отцом очень ее волновала. И сегодня как раз должен вернуться посланец из Пскова… По лицу Александра она поняла, что это было письмо… — она не хотела точно догадываться, но, во всяком случае, от женщины, в которую он страстно влюблен… Больше того, внезапно она утвердилась в мысли: этот роман имел завершение! Однако же ей не хотелось остаться и с Анной, и она прошла прямо на кухню. Даже Евпраксия и та как-то примолкла. Она позвала Валериана на мировую, искать в парке желуди; усталость была ей незнакома.
Чистые звуки Россини полнили воздух. Анна еще постояла немного одна и тихо вернулась в гостиную. Она не пошла далеко. И от дверей было видно: на подоконнике сиротливо лежала горстка цветов, оставленных там Александром. Окно было распахнуто, желтая бабочка, точно весной, присела на них и опять упорхнула па волю. А Пушкин скакал где-то сейчас в дворовой телеге…
Алина, играя, за спиною услышала сдержанный звук рыдания и поспешные чьи-то шаги на террасу. Но к Анне она даже не обернулась. Она понимала и так все, что творилось вокруг. Она только закрыла глаза на мгновение, тихонько вздохнула и продолжала играть.
Пушкин же, точно, подпрыгивал в тряской телеге, но смятение его чувств было так велико, что он едва различал даже неистовый грохот колес.
Когда подъезжали к самому дому, Пушкин приказал лошадь больше не гнать, и колеса телеги тотчас перешли на жалобный скрип. Сквозь него явственно сразу послышался голос отца. Кому-то, сердясь, он говорил:
— Сколько же раз тебе объяснять, что надо из левого! А ты все свое. Так лучше палец ложится! А письмо между тем важное… и деловое.
Пушкин отца наконец увидал. Сергей Львович стоял на крыльце и показывал няне, как перья у гуся изогнуты в правом крыле и как изогнуты в левом, и почему только в левом крыле удобные перья, чтобы писать. Пушкин, еще не слезая, сразу схватил суть разговора. Сам он гусиных тех тонкостей не различал и не мог про себя не усмехнуться. Это отчасти, пожалуй, разрядило и его напряжение.
Няня, слушавшая Сергея Львовича очень внимательно, вдруг обернулась на скрип; разглядев, кто сидел на телеге, она всплеснула руками и, покинув старого барина, молодо побежала навстречу дорогому питомцу. Тогда поглядел и отец, но не двинулся с места; он выжидал, чтобы сын поздоровался первый. Руки его как были расставлены, так и остались — декоративно.
Пушкин легко соскочил на ходу и с размаху обнял рукой теплую нянину шею:
— Мамушка, здравствуй! Что, резали гуся?
— А барчуку молодому в дорогу. Нынче под вечер, знать, выезжает.
— Как, разве нынче?
У Пушкина бывали порою такие причуды. Он отлично знал об отъезде брата, но вот сделал вид, что не знает.
— Так точно, нынче, — не спеша ответила няня.
От нее дышало домашним теплом и уютом. По-осеннему ватка была заложена в ухе. И на ухо Пушкину шепнула, как целовала:
— Совсем, что ль?
Он понял тотчас, как она без него стосковалась, но, ничего не ответив, обернулся к отцу и поклонился ему на расстоянии. Сергей Львович, однако же, все продолжал выжидать; только привел в движение руки и крепко теперь по обеим сторонам груди держался за отвороты халата.
— Здравствуйте, батюшка. У вас, говорят, письмо для меня?
— Оно тебя ждет уже несколько дней, — ответил отец. — Но тебя же нет дома… Гостишь! — и, пожевав сухими губами, добавил: — Пакет очень толстый, и даже на свет ничего не видать. Только понюхал: духами не пахнет. — Тут отнял он правую руку и приблизил к носу длинные узкие пальцы.
О, Сергей Львович всегда пребывал на большой высоте! Пусть-ка попробует сын что-либо ответить! Не так-то легко. Пожалуй, поэт, и для тебя это столь тонко, что и схватить, может быть, не за что!
Но сыну отнюдь не хотелось вступать в словесную битву, и попросту он промолчал; для старшего Пушкина это было лишь полупобедой.
— Пойдем, ты возьмешь свой пакет, — немного помедлив, вымолвил он с тою разумною строгостью, к которой обязывало его положение, и, отняв наконец от халата и левую руку, направился в комнаты.
Пушкин за ним не торопился. Никак он не ожидал такой встречи с отцом. У Сергея Львовича не было ни тени смущения и ни торопливости, столь ему свойственной. Точно почувствовал он под собою какую-то новую почву.
И что за письмо, которое он собирался писать и для которого даже перо нужно было особенное?..
— И матушка ваша очень тоскует, — промолвила няня, улучив минутку. — Да, никак, вот и сами они.
И действительно, Надежда Осиповна вышла на голоса. На ней была домашняя бархатная кацавейка, голова не покрыта. Пушкин взглянул на нее и не нашел в сердце обиды.
— Ну, подойди, подойди! — заговорила мать, поглядывая искоса на няню. — Что запропал? Иль у соседей мед слаще нашего?
Пушкин поцеловал сухую ее темную руку.
— Ну вот, хорошо. А то мы тут с завтрева с Ольгой одной. Ну что ж, ты не будешь больше руками махать?
— Да, кажется, я и не махал.
— Нет, нет, нехорошо, — промолвила Надежда Осиповна, и нельзя было точно понять, к кому же именно относилась сдержанная эта укоризна. — Няня, пойди скажи Льву Сергеевичу, что братец приехал его провожать.
«Лев им не показал, — подумал Пушкин. — Они ничего так-таки и не знают…»
Третьего дня Пушкин Льву прочитал свое послание к Жуковскому, тот переписал его и сказал, что покажет родителям, что их надо осведомить, что, может быть, это послужит к умиротворению… Пушкин подумал тогда и не возражал. И вот… ничего!
Но в ту самую минуту, как он это подумал, мать, выждав, пока няня ушла, вдруг необычно вскинула руки и положила их ему на плечи. От старенькой кацавейки пахнуло на Пушкина детством, Москвой и зимой. Он поднял глаза на нее и увидел, как дрогнули эти черты. Надежда Осиповна пристально глядела на сына, и видно было ему, как теснились в ней горячие чувства, еще не нашедшие слов; губы ее шевелились беззвучно. Но вот она потянула к себе его за плечи и зашептала прямо в лицо:
— Ты что ж, и взаправду такое задумал? Да что же станется со мной, коли ты будешь в крепости? — И она судорожно-крепко его обняла и прижала к груди.
Пушкин был истинно тронут. Но когда она его отстранила, лицо ее снова было спокойно и даже немного насмешливо.
— И отец говорит: «Экой дурак, в чем оправдывается. Да он бы еще осмелился меня бить! Да я бы связать его велел!»
— Матушка, вы посудите: так зачем же было меня обвинять в злодействе несбыточном?
— И еще так говорит: «Да он убил отца словами!»
Так и не получила развития короткая эта минута истинных чувств, когда Александра обняла настоящая мать. Снова условности выступали на сцену, и опять зазвучали каламбуры отца…
И, однако же, прежде чем с сыном расстаться, сказала ему Надежда Осиповна и еще одну важную вещь. Она даже огляделась вокруг и понизила голос:
— Он нынче пишет Пещурову… Ты помолчи! Он больше не хочет этих обязанностей.
Так вот для чего эти все рассуждения о правом и левом крыле убитого гуся, так вот оно — важное и деловое послание! И на сердце у Пушкина несколько отлегло. С отцом в кабинете он был сдержан и ровен, приличен.
Наконец и письмо, что его так взволновало, было в руках; штемпель: С.-Петербург, и почерк мужской, незнакомый. Это, во всяком случае, было спокойнее.
Но когда он пришел к себе в комнату и вскрыл его, неожиданно выпал из середины листок, исписанный мучительно знакомой рукой… Раевский, как видно, упорствовал в жестоком своем обещании «надоедать» ему письмами, «пока не заставит ответить». В послании этом ничего не было нового, и оно было столь же фальшиво, как и первое. Однако ж листок этот был только вложен. Основное письмо было от князя Сергея Григорьевича Волконского, писавшего по возвращении с Кавказа, куда он ездил на минеральные воды. В письме были новости: генерал извещал его о предстоящей женитьбе.
Сидя на подоконнике, Пушкин читал: «Уведомляю вас о помолвке моей с Мариею Николаевной Раевской. Не буду вам говорить о моем щастии, будущая моя жена была вам известна».
Как это бывает, когда прошлое глубоко ложится на сердце, оно, встрепенувшись, возникает внезапно столь явственно, что полностью как бы отодвигает все настоящее. Прошлое это, ясно, не умирало; оно только не движется, стало видением, а самое время его обтекает, не трогая, не разрушая. У Пушкина это с Марией Раевской — совсем по-особому: как если б была в пределах широкого его бытия — еще и особая, сама в себе замкнутая, утаенная жизнь. Он не анализировал этого чувства, оно и без того пребывало в нем — верное само себе. И, как ни странно, у всего этого было и имя — краткое, но исчерпывающее: Мария!