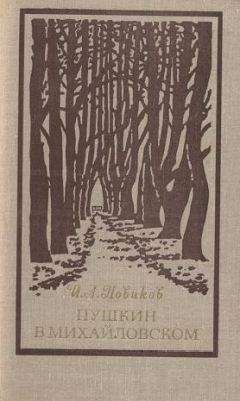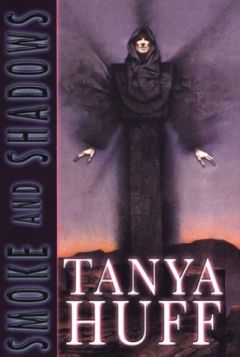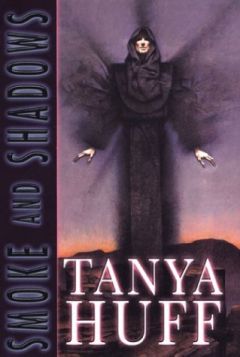Она выходит замуж. Поставлена точка, но в их отношениях есть нечто такое, над чем не властно — ничто. По крайней мере, так у него. А у нее?..
Пушкин закрыл глаза и опустил письмо на колени. Так и застал его Лев.
— Что за письмо? — спросил он тревожно.
Пушкин ответил не сразу.
— А помнишь, — сказал он негромко, — я писал тебе из Кишинева, об эту же пору… нет, еще в сентябре — о своем путешествии… и о Раевских…
«Все его дочери — прелесть», — тотчас процитировал Лев, щегольнув своей памятью. — «Старшая — женщина необыкновенная…»
— Речь тут о младшей. Но как же ты помнишь, однако!
— Я цитирую Александра Пушкина! — ответствовал Лев. — Я думал всегда, что письмо это надо печатать.
— Пожалуй, но только оно должно быть пространней. Вот погоди, выпадет снег…
Странно, Пушкин слышал свой собственный голос, шедший как будто откуда-то издалека.
— Я помню оттуда и еще, — продолжал Лев: — «Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался».
Довольно, — прервал его Александр; однако ж и сам повторил, словно эхо: — «Которой никогда не наслаждался».
Лев перебил задумчивость брата быстрою шуткой:
— Ну, а тут «милое семейство» скоро разъедется, и я первый. Есть наслаждение в отсутствии семейства!
Состояние старшего брата казалось ему только задумчивостью. Левушка дальнозоркостью в области чьих бы то ни было душевных движений никак не отличался, и спокойно брата оставил — с собою самим наедине. Странное дело: Лев точно был лишний, мешал он тому, что так внезапно сейчас привиделось Пушкину. Да и в самом деле — никого тогда не было, а это значит, что и сейчас быть не должно. И даже Мария сама Пушкина тогда не видала. С необычайною яркостью и полновластно встало перед ним это видение девы над морем, открывшееся ему тогда совсем неожиданно. Он спускался с горы и вдруг увидел Марию — в белой одежде, на невысокой скале, стоявшую к нему спиной и пристально глядевшую в бушующую темную даль.
Он не окликнул Марии тогда, когда она, не заметив его, прошла мимо, и позже об этом ей ничего не сказал: точно какой-то запрет наложил на уста. Твердо он знал, что если об этом начать говорить, то надо и продолжать, надо открыть тогда все… Что именно «все» — этого и про себя Пушкин произнести не решался. Впрочем, того, что не сказано, — у обоих у них было достаточно.
Но в эту минуту, когда снова вернулись — и море, и ветер, гроза, и Мария — все это в нем с огромною силой было готово излиться в живые и точные стихотворные строки.
И, однако же, все это прервано было коротеньким зовом:
Пожалуйте кушать!
Пушкин крепко взял себя в руки и вышел к столу, внешне спокойный и сдержанный, как он иногда это умел.
Напряженность домашних переживаний заметно смягчилась. Теперь оставался лишь Адеркас, и письмо к нему было как твердый орешек, который не вот-то раскусишь. Посланный Осиповой все еще не возвращался…
За обедом был гусь и, по случаю проводов, даже бутылка вина. Старшие были задумчивы: хотя б и на несколько дней, все же было им беспокойно расстаться с возлюбленным Левушкой. Александр поглядывал порою на мать, и, как ни коротко было мгновение это, — там, на крыльце! — на сердце теплело. К отцу за столом, однако же, он не обращался, не принимая участия и в обсуждении новости о женитьбе Волконского.
Выпив вина, Сергей Львович заметно оживился и снова обрел способность шутить. На замечание Надежды Осиповны о том, что жениху клонит уже к сорока, а невесте нет еще полных и двадцати, он отозвался очень причудливо:
— Как-то раз я спросил у одной деревенской старухи: «По страсти ли, бабушка, вышла ты замуж?» — «По страсти, родимый: прикащик и староста собирались меня до полусмерти избить!»
Пушкин вдруг встрепенулся что-то сказать, но сдержался. Зато совсем простодушно отозвалась Ольга Сергеевна:
— А кто ж та старушка?
Вопросы женитьбы, замужества живо всегда ее интересовали.
— А она порядком-таки помоложе тебя, ты ведь слышала, — ответил отец, не отказав себе в удовольствии поддразнить Ольгу.
— Но ведь Марию Раевскую никто же не принуждал, — заметила мать.
Пушкин ответил серьезно и сам для себя неожиданно:
— Иногда принуждает судьба.
Это и было его единственным откликом на весь разговор.
Лев не умел собираться. Все за него надо помнить, и на укладку позвали Никиту Козлова: за ним была слава долголетнего путешественника; руководила же им Ольга Сергеевна. Братья вышли пройтись. Они еще раз горячо обо всем переговорили. Александр произнес и прощальные строки; Лев был стихами растроган и поклялся, что сделает все для побега.
— Не вышло у нас, как мы условились, но я тебя все-таки провожу до Тригорского, — сказал Александр. — А примечание об осле и о дядюшке выбрось!
Тут Лев огорчился и очень просил, чтобы оставить про дядюшку. Но Пушкин уже не хотел теперь обострять и без того напряженных отношений со старшими.
Младшего сына родители провожали по старине, следили, чтоб кто-нибудь не сел возле печки. Побыв так в молчании, поднявшись, крестились на образа, крестили друг друга и длительно целовались. Сергей Львович из сюртука вынул платок; на этот раз был он действительно влажный.
В Тригорском, куда они подкатили, когда уже было темно и окна светились между деревьями, проводы вышли другие. Здесь не одна на столе стояла бутылка, и Левушка, крепко подпив, сильно шумел.
— Честью клянусь! — возглашал он, поднявшись. — Что Петербург! Мысли мои и сердце мое — здесь, между вами!
— Сейчас из гондолы в гондолу, гляди, перепрыгнет! — смеялась Евпраксия.
— Что правда, то правда, Зизи: из Петербурга на рождестве перепрыгну сюда и буду вас всех целовать… Честью клянусь!
Вечер был шумен и весел. Левушка рассыпал свои шутки девицам, но, однако же, с Прасковьей Александровной о чем-то успел поговорить — и серьезно, и лицо у него было весьма озабоченное. Милого брата Лев обнимал без конца и в ухо шептал на прощанье:
— Ты меня не суди! Я ведь хочу, чтобы мирно… чтобы все обошлось… Я так и расскажу в Петербурге… А перстень исправлю, я его взял… Я привезу его сам…
Пушкин заметил и эти таинственные переговоры с хозяйкою дома, и смущение Льва; его настойчивый шепот наводил на размышления. Однако же брата он ни о чем не спросил.
Когда отшумела коляска, Прасковья Александровна, не без робости, задержала Пушкина перед домом.
— Вы знаете: неудача, — сказала она. — Егорка его не застал.
— Кого не застал?
— Губернатора.
— Но оставил письмо?
— Нет, не решился. Письмо у меня.
Пушкин молчал. Лица его в темноте не было видно. Быстро скользнуло о брате, — что это значит: «Я расскажу, что все обошлось…» Точно он знал уже…
— Льву вы сказали?
Прасковья Александровна ничего не ответила. Что ей сказать, когда весь этот план обдуман был вместе со Львом… Стояла она в темноте и смертельно боялась, что Александр обо всем догадается и впадет в гнев.
Но Пушкин ничем себя не обнаруживал, и молчание длилось.
— Мамочка, спать! — послышался зов из окна.
Эта Зизи вечно некстати! Мать подошла, приказала ей спать и захлопнула раму.
Но когда она возвратилась к месту беседы своей с Александром, его уже не было. Лишь в отдалении, по направлению к Сороти, слышен был его энергический шаг.
Глава девятая Просторная осень
Через несколько дней уехала, в сопровождении Михаилы Калашникова, и Ольга Сергеевна. Пушкин простился с ней нежно. В эту осень она была очень мила и даже, при всей своей обычной расплывчатости, проявила по отношению к брату горячее чувство, не поддаваясь родителям, а порою и прямо им противореча.
Казалось бы, если сравнивать с поведением Льва, Ольга заслуживала и большего уважения. Но, странное дело, болтушка и дипломат, и даже просто вралишка, — Левушка все продолжал занимать в сердце старшего брата более крепкое место, чем занимала сестра. Юная живость его и порывистость, может быть, чем-то Александру напоминали и собственные его петербургские годы… И он уже слал ему с отъезжающей Ольгой письмо — веселое, полное шуток и непринужденностей.
Он поддразнивал брата и Анною Вульф, за которою якобы начал сам ухаживать, и тем, что ревнует будто бы ее к нему и бранит его перед нею, и запрашивал, шумит ли Питер и что «Онегин»; и журил, вспоминая вечер отъезда, за чрезмерное пристрастие к винам, стращал, что из него может выйти подлинный ветрогон, пустельга; и наказывал, чтобы прислал по длинному списку: и книги Лебрена — оды, элегии, и серные спички, и карты (и, чтобы Лев не спутал с географическими картами, добавлял: «т. е. картежные»), и «Жизнь Емельки Пугачева», и «Путешествие по Тавриде» Муравьева, и горчицы, и сыру, и тут же бросал: «Что наши литературные паны и что сволочь?»