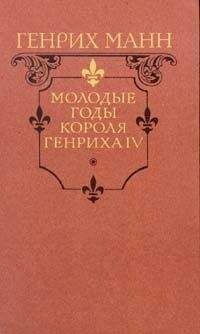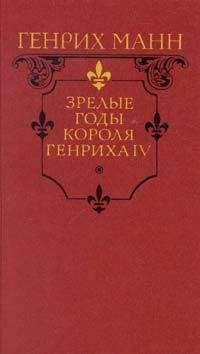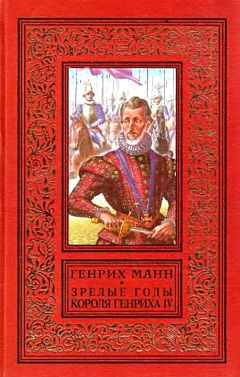— Я думаю! — заметила Екатерина. Она вспомнила последнее письмо, в котором Жанна д’Альбре льстилась надеждой отнять у нее власть и которое Екатерина собственноручно вскрыла и снова запечатала. Об этом письме вспомнил и Генрих.
А старуха стала еще проще и сказала: — Дитя мое! — сказала прямо-таки дружелюбно.
— Дитя мое, мы не случайно здесь одни. Вы поступили хорошо и правильно, что прежде всего явились ко мне, иначе я сама пригласила бы вас, чтобы дать некоторые разъяснения по поводу смерти вашей матери, моей дорогой подруги. Тот, кто не знает, как было дело, может в самых естественных событиях усмотреть тайну, и это вызовет в нем озлобление.
«Ловко разыграно!» — подумал он и ответил: — Вы совершенно правы, мадам, я сам в этом убедился. Никто из тех, кто видел мою мать-королеву незадолго до ее смерти, не поверил бы, что ее жизнь уже под угрозой.
— А вы, дитя мое? — напрямик спросила Екатерина, и притом с такой материнской заботливостью, как будто она самая честная старуха на свете. Вот он, этот миг! Ведь именно ради этих слов Генрих явился сюда. И сейчас он должен крикнуть: убийца! Так представлял он себе расплату с мадам Екатериной до того, как этот миг настал. Однако юноша медлил. Его жгучая ненависть натолкнулась на неожиданное препятствие. — Я жду ваших разъяснении, — изумленно услышал он собственный ответ.
Она кивнула с довольным видом. Затем слегка повела плечом, подавая знак двум швейцарцам, охранявшим вход во внутренние покои. Солдаты опустили пики, распахнули обе половинки двери. Тотчас вошли двое одетых во все черное мужчин — высокий и поменьше. Они были с непокрытой головой, без оружия, но на их лицах лежала печать какого-то скорбного достоинства. Они склонились, как и полагалось, сначала перед королевой Франции, затем перед королем Наваррским, потом замерли, ожидая знака, приказа королевы, и, как только она милостиво опустила руку, заговорили, обращаясь к Генриху:
— Я Кайар, бывший лейб-медик ее величества королевы Наваррской. — Эти слова произнес долговязый и, видимо, сам глубоко проникся их торжественностью.
— Меня зовут Дено, я хирург. — Это был совсем другой тип, он с удовольствием обошелся бы без казенной скорбности.
— По приказу ее величества, я, Кайар, член факультета, четвертого июля, во вторник, был вызван в дом принца Конде и нашел королеву в постели, у нее был приступ лихорадки.
«Стакнулись, — подумал Генрих, — и теперь будут без конца разглагольствовать». Он сел.
— А какое лечение вы применили? — спросил он вторично мужчину в черном. — Клистир?
— Это не мое дело, — ответил хирург, — этим вот он занимается, — и толкнул локтем своего коллегу.
Врач побелел от гнева, однако продолжал с полным самообладанием:
— Я, Кайар, член факультета, незамедлительно произвел обследование и установил, что правое легкое у королевы весьма сильно поражено. Заметил я также необычное затвердение и предположил наличие опухоли, которая могла прорваться и вызвать смерть. Согласно этому, я и записал в своей книге: ее величество королева Наваррская проживет не более четырех — шести дней. Это было четвертого, во вторник. А в воскресенье, девятого, наступила смерть. — И он протянул Генриху упомянутую книгу с записями.
Генрих бросил беглый взгляд на каракули врача. Второй, одетый в черное мужчина состроил такую рожу, которая ясно говорила, что заявлениям первого никакого значения придавать не следует, разве что комическое, и, видимо, решив, что пора высказаться, начал очень просто:
— Я всего лишь хирург Дено и совсем не знаменит, ваше величество, вероятно, никогда не слышали даже моего имени. Но вы, бесспорно, знаете прославленного господина Кайара, красу факультета. Его вскормила наука, а я всего лишь скромный ремесленник и работаю пилой. Он предрекает людям точный час их смерти, вопрошая, если нужно, даже звезды. Я же вскрываю тела людей после их смерти и притом все-таки кое-что нахожу, чего отрицать нельзя, ибо мои находки можно увидеть и ощупать. Но потом оказывается, что все это уже заранее было записано в сивиллиной книге великого Кайара, почему я остаюсь его ничтожным помощником. — И он отвесил врачу низкий поклон.
А тот принял похвалу как нечто вполне заслуженное. — Так вот, — продолжал Кайар, — когда королева скончалась, я, следуя ее воле, выраженной еще при жизни, поручил здесь присутствующему хирургу Дено произвести вскрытие ее тела.
Сын покойной вскочил: — И вы это сделали? И вы осмелились?
Кайар продолжал хранить вид скорбный и достойный. — Не только тело ее величества приказал я по ее велению вскрыть, но и голову. Ибо королева страдала от мучительной щекотки в голове и опасалась передать какую-то неведомую болезнь своим детям. Она настаивала, хоть я и напоминал ей о том, что ничто не передается по наследству без воли господней.
— Докажи! — воскликнул Генрих и топнул ногой. — Иначе я ни одному слову твоему не поверю!
Тут врач и в самом деле извлек какой-то свиток, протянул его Генриху, и юноша прочел имя своей матери, написанное ею самой, это было несомненно. А сверху другим почерком были записаны ее распоряжения, о которых рассказал врач.
— И что же вы нашли? Скорей, я хочу знать!
Теперь заговорил хирург. — В теле оказалось все так, как и предвидел господин Кайар, — уплотнение пораженного легкого и опухоль, которая, лопнув, явилась причиной смерти. А в голове — вот что.
Точно фокусник, чуть улыбающийся удавшемуся фокусу, он указал на стол, где лежал большой, весь исчерченный лист бумаги. Еще за мгновение перед тем стол был пуст. Генрих склонился над листом и вздрогнул: на бумаге выступали контуры черепа, это был череп его матери. А хирург продолжал:
— Когда я распилил голову королевы…
— В моем присутствии, — торопливо вставил врач.
— Иначе череп и не удалось бы вскрыть… Итак, когда я вскрыл его, я обнаружил под черепной коробкой какие-то пузыри, наполненные водянистой жидкостью, которая, вероятно, еще при жизни королевы разлилась по мозговой оболочке.
— Отсюда и необъяснимая щекотка, — заметил врач. Хирург толкнул его в бок и пропищал:
— Он вот объяснил! А я бы не смог. Только рисунок сделан мною. Видите, где я держу палец?
Но долговязый, хранивший торжественный вид, попросту отбросил палец своего подчиненного; тот прямо посинел от злости.
Пока врач подробно и с непоколебимой убежденностью объяснял значение линий и точек, Генрих, хотя и слушал его, однако в то же время продолжал наблюдать за мадам Екатериной. И она сначала склонилась над чертежом, внимательно разглядывая его, хотя, наверное, видела не в первый раз. Но чем яснее становилась болезнь ее милой подруги, тем больше откидывалась назад мадам Екатерина, пока снова не приняла прежнее положение в своем кресле с прямой спинкой.
— Это такой редкий случай, — заметил врач, — и настолько подозрительного свойства, что мой учитель и предшественник наверняка бы предположил здесь колдовство, я же верю только в природу да в волю божию.
Мадам Екатерина ободрительно кивнула и поглядела на сына своей подруги, — да, перед ним лицо доброй, простодушной женщины, быть может, искушенной и многоопытной, но в этой смерти она тоже ничего не понимает, она искренне встревожена загадочной немилостью судьбы. «Если б только я мог проникнуть в бездну ее взгляда!.. — думает сын отравленной Жанны. — Хотя почему она непременно должна быть отравлена? Все могло произойти вполне естественным путем. В искренности врача сомневаться не приходится, как, впрочем, и в ограниченности его познаний. А пузыри под черепом у моей матери? Чем они вызваны? Ядом? Ах, если бы я мог проникнуть в бездну этого черного взгляда и нащупать руками, что там прячется! Я хочу знать наверняка!»
Его душевная борьба едва ли могла ускользнуть от умной старухи, однако Екатерина сделала вид, будто ничего не замечает. Она держалась так, словно ее единственная цель — смягчить горе скорбящего сына. Прежде всего она подала знак обоим лекарям, и они, поклонившись, удалились с тем же достойным и скорбным выражением, с каким вошли. Затем Медичи, видимо, решила дать ему опомниться, но воцарившееся молчание продолжалось, может быть, слишком долго: ненависть Генриха, на время утратившая свою напряженность, проснулась с новой силой. Он вспомнил о вскрытых письмах: именно после того, как они были отправлены, умерла его мать! Сам того не замечая, он большими шагами забегал по комнате. Мадам Екатерина спокойно следила за ним, и он, заметив это, снова почувствовал в душе смятение. Юноша внезапно остановился перед ней, окрестив руки, в недопустимо вызывающей позе. Слово «убийца» уже грозило сорваться с его губ. Никогда еще он не был так близок к этому. Однако она предупредила взрыв и начала мирно и неторопливо:
— Милый мальчик, я рада, что вы теперь знаете столько же, сколько и я. Мне было приятно видеть, как вы тоже постепенно убеждались в истине. Теперь мы можем похоронить печаль в глубине наших сердец и обратиться к радостному будущему.