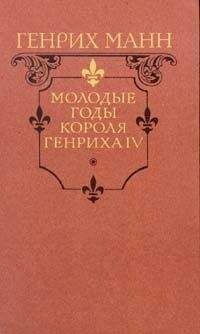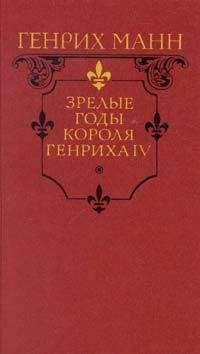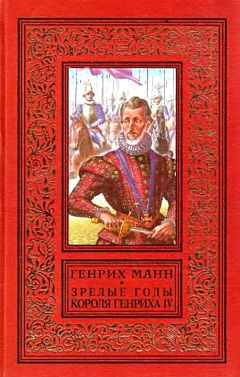— Милый мальчик, я рада, что вы теперь знаете столько же, сколько и я. Мне было приятно видеть, как вы тоже постепенно убеждались в истине. Теперь мы можем похоронить печаль в глубине наших сердец и обратиться к радостному будущему.
— А череп? — угрожающе бросил Генрих в лицо королевы, тяжелое и серое, как свинец. Затем поискал глазами на столе — листок с рисунком исчез; от изумления у него прямо руки опустились. Впервые мадам Екатерина не сдержала насмешливой улыбки, отнюдь для него не лестной. «Вы даже этого не заметили, милый мальчик», — точно говорила эта улыбка.
Как ни странно, неудача успокоила Генриха и настроила его самым деловым образом. Ничего не поделаешь. Екатерина взяла верх. Договориться с ней нужно. И он тут же забыл о ненависти и недоверии, точно их и не было. При его характере это было нетрудно. С чувством облегчения уселся Генрих против старухи, а, она одобрительно кивнула. — Нас с вами ожидает немало хорошего, — сказала Екатерина.
Генрих не ответил, и она продолжала: — Теперь мы друзья, и я могу сказать откровенно, почему я отдаю вам свою дочь: из-за герцога Гиза, который мог бы стать опасен моему дому. Он ведь был вашим школьным товарищем, и вам, вероятно, известно, что Генрих Гиз упорно домогается любви парижан… Он старается выказать себя более усердным христианином, чем я, а я, как известно, изо всех сил защищаю святую церковь!
При этих словах какая-то искорка сверкнула в ее непроницаемом взоре, а Генрих тут же забыл, что ему хотелось заглянуть в глубины ее души, и беззвучно рассмеялся вместе с нею: хоть в неверии своем созналась, и то хорошо. Презрение к ханжескому фанатизму сближало их. Впрочем, лицо ее тотчас опять стало серьезным.
— Но он добился того, что папа и Испания поддерживают его. На их деньги этот ничтожный лотарингец мог бы выставить против меня большое войско. Если так будет продолжаться, этот Гиз, пожалуй, весь Париж поднимет. Больше того: он может нанять убийц. А чего он в конце концов добьется? Франция сделается испанской провинцией.
Мадам Екатерине было все равно, что ее случайный собеседник — незначительный молодой человек. Она предавалась со страстью своему излюбленному занятию — заглядыванию в бездну.
— Ведь и я, — продолжала она вполголоса, — могла бы доставить приятное испанскому королю. Он злится на меня за то, что я щажу моих протестантов… — Екатерина смолкает, она долго что-то обдумывает. Ее сжатые губы шевелятся, и это заставляет Генриха насторожиться больше, чем ее слова. — Нанимать убийц? — бормочет Медичи.
И она могла бы это сделать! Но только ей это ни к чему: ее собственная жирная ручка отлично умеет приготовить ядовитое питье! Он пристально наблюдал за ней, и она вскоре заметила его настороженный взгляд…
— Мои протестанты мне так же дороги, как и все остальные французы, — заявила она по-прежнему невозмутимо. И закончила, слегка подчеркивая свои слова: — Я ведь королева Франции.
— Это ваш сын — король, — необдуманно поправил он ее, вспомнив рассказ своей матери Жанны о том, что король страдает каким-то ужасным недугом и что оба брата Карла, ныне здравствующие, обречены на ту же болезнь, — старшим она уже овладела.
«Кто эта одинокая старуха, — спрашивает себя Генрих, — которая, видимо, надеется пережить всех своих сыновей? До остальных французов ей, в сущности, так же мало дела, как и до нас, протестантов». Вслух он сказал:
— Как прекрасен ваш замок Лувр, мадам! Но все, что придает ему блеск, идет с вашей родины. Архитектура ведь итальянская, — «так же, как и искусство изготовлять яды», хотелось ему добавить. Она пожала плечами, ибо из этих двух искусств первое было ей совершенно чуждо. Да и свою Флоренцию она ничуть не любила: в молодости она была там несчастна и подверглась изгнанию.
Однако мадам Екатерина умела быть только собой и ничем иным; этим она и была сильна, пока жизнь ее не сломила.
Сейчас она подозрительно уставилась на юношу: — Вы говорите о короле? Разве вы виделись с ним раньше, чем со мной?
Он с живостью отрицал. Екатерина заговорила еще тише: ее слов не должны были слышать даже швейцарцы у дверей, хотя они все равно ничего бы не поняли. — Король бывает иногда не в себе, — зашептала старая дьяволица. Я никому не говорю об этом, но на него иногда накатывает ярость, и он тогда бредит убийством, бойней. Это у него от болезни, — настойчиво бормотала она.
А Генрих подумал: нечего сказать, в хорошую он входит семейку; впрочем, ничего здесь нового нет. Но мать кровоточивых сыновей уже снова успокоилась. — Остальные два у меня удачные, особенно д’Анжу. Подружитесь с ним, мой мальчик. А главное, держите всегда нашу сторону против лотарингцев! Вы будете так же командовать нашим войском, как ваш отец, — вы можете, — и пригодитесь нам не меньше, чем он. Зато вы получите мою дочь. Но и тут, смотрите, остерегайтесь герцога Гиза. Женщины считают его красавцем.
А Генрих думает про себя: «И спят с ним. Нечего морочить мне голову, мадам! Мы друг друга знаем, и мне известно, какова та девушка, на которой я женюсь. Только моя дорогая мать не догадывалась…» — шептало ему его любящее сердце.
И он сказал с вызовом: — Потому-то вы, мадам, и отослали Гиза до моего приезда.
А старуха отвечала еще спокойнее: — К вашей свадьбе он вернется. Иногда бывает лучше, чтобы на глазах у молодой девушки не торчал мужчина, который пользуется слишком большим успехом. А мне, старухе, следует постоянно надзирать за ним. Я хочу, чтобы все мои враги были собраны тут, у меня, в Лувре. К ним принадлежит и он, в этом не может быть сомнения.
Столь бесцеремонная откровенность могла бы оскорбить Генриха, хотя он уже с юных лет не верил в доброкачественность человеческой природы. Но Екатерина слишком уж обнажала жизнь. С другой стороны, в нем брало перевес какое-то доверие, мало-помалу возникавшее в его душе во время их беседы. Когда восемнадцатилетний юноша слышит столь лестное мнение о себе, он в конце концов попадается на удочку. «Мне лично этой знаменитой ведьмы бояться нечего, да и матери моей ничего она в питье не подмешивала». И если бы сейчас перед ним стоял на столе стакан, он был бы готов залпом выпить его.
Вместо этого мадам Екатерина подала знак, стража тут же распахнула наружные двери, и на пороге появились те двое дворян, которые проводили Генриха сюда. Слегка удивленный, Генрих простился и последовал за ними.
Он заговорил со своими провожатыми. Один из них был первым дворянином короля, его звали дю Миоссен; это был человек крайне осторожный и тщательно скрывавший, что он протестант. Генрих сказал ему это прямо в лицо; по некоторым безошибочным приметам он умел распознавать ревнителей истинной веры. Принц спросил, смеясь:
— Вы что, боитесь парижан? Народ нас, верно, недолюбливает?
— Если бы вопрос шел только о народе, — загадочно ответил Миоссен.
— Стыдитесь! У первого дворянина короля должно быть больше гордости!
Затем Генрих покинул обоих придворных и ускорил шаг, ибо в глубине парка, содержавшегося в образцовом порядке, заметил самого Карла Девятого; тот был один и возился со сворой собак, которые оглушительно лаяли. Генрих окликнул его. Но король не слышал, а в это время внимание Генриха привлекло нечто другое: он стоял под окном той комнаты, из которой только что вышел. И вот перед ним озаренный солнцем фасад во всей своей неправдоподобной прелести, быть может, искушение лукавого, но во всяком случае, если даже наваждение, то чарующее наши чувства. И тут же он понял, что мадам Екатерина отпустила его в слишком уж выгодную для нее минуту, когда он наконец решил, что его мать все-таки не была отравлена. Именно в тот миг, когда он этому поверил, Екатерина отпустила его. Она видела его насквозь с грубой прозорливостью, он же тщетно старался проникнуть в глубины ее непроницаемого взгляда. И тогда юношу охватил страх: в нем опять ожило то первоначальное ощущение, с которым он вошел в комнату наверху, — вошел как судия и мститель. «Убийца!» Дважды удержался он и не произнес этого слова, и не только из осторожности, как опытный царедворец, но и потому, что старуха действительно внушила ему какое-то дурацкое, слепое доверие. «В таких случаях молодость — плохой советчик, по крайней мере меня она обрекла на полное бессилие!»
Он быстро отыскал знакомое окно. Нет, он все-таки не ошибся! Лицо тут же снова исчезло, Генрих не успел его рассмотреть; за ним следили, он чувствовал это. Проверяли, осталось ли что-нибудь от его ребячьей доверчивости? «Самая малость, мадам Екатерина! Я знаю далеко не все, и даже отчего умерла моя мать-королева, не знаю наверное! Но я не забуду никогда, что из двух искусств ваших соплеменников — составления ядов и благородного зодчества — вам доступно только первое. Вы злая фея, если только вы фея. Мне предстоит здесь изведать, что такое ужас, но при этом я должен смеяться. А про своего толстого сына она сказала, будто он бешеный».