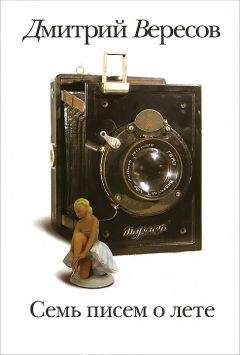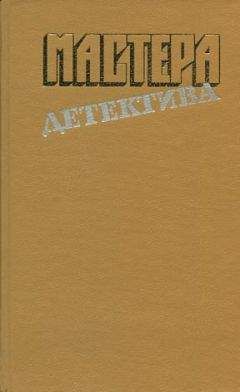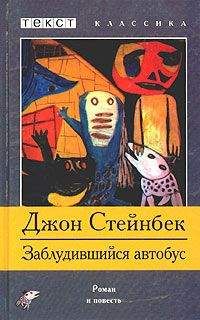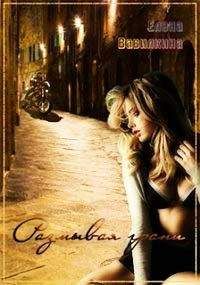Уже много лет Валентина приходила сюда в один и тот же день, вернее, почти в один и тот же. Иногда мешали какие-нибудь дела или обстоятельства, и тогда она приходила на несколько дней позже или раньше. Это было не важно. Важно было сюда прийти. Побывав здесь в первый раз, как ей тогда показалось, случайно, она, еще совсем молодая, не придала этому значения, просто была немного удивлена, и тем, что она, комсомолка, вместо того чтобы пройти мимо, вдруг повернула и вошла в церковь, и теми чувствами, которые она до того никогда не испытывала и которые открылись ей в этих стенах. А спустя ровно год она вновь очутилась перед уже знакомыми дверьми…
Валентина шла по Малому от Тучкова моста. На проспекте было жарковато и душно, начавшее клониться к западу, но еще высоко стоящее яркое солнце било прямо в глаза, и на Пятой линии она повернула к Смоленке, где вдоль реки росли липы и где можно было идти, укрываясь от назойливых лучей под их кронами. Она шла вдоль реки, поглядывая на воду, на редких лодочников, на заросшие травой склоны берега, наслаждаясь освежающей влажной прохладой, идущей от русла и вплетающейся в нагретый пыльный воздух. И тут, то ли из-за близости воды или из-за неожиданно громкого выкрика сидящего на противоположенном берегу старика, обращенного к проплывающему мимо в лодке мужчине, то ли потому, что рядом за кустами заплакал ребенок, а может быть, по причине всего этого вместе, Валентина вдруг во всей яркости и словно вычерченной рейсфедером четкости вспомнила ту реку, тех людей и их крики в тот день… Вспомнила и увидела как наяву… Из ее сознания совершенно выпало то, как она дошла до Камской улицы, как вошла на кладбище, и очнулась, оказавшись уже на ступеньках церкви.
За открытыми дверями храма была тишина. Она достала из сумочки косынку, повязала на голову, подобрала под шелк непослушные упругие пряди и переступила покрытый медной полосой порог. При входе, с правой стороны, в отгороженном старинной резной конторкой углу пожилая женщина, вся в черном, продавала маленькие иконки и свечи. Валентина заплатила за три свечи и, бережно держа их в руке, медленно пошла вдоль стен, глядя на образы и стараясь ступать как можно тише. Она остановилась перед иконой Николая-угодника, зажгла и поставила перед ним свои свечи и стояла долго, глядя на огонь, на тающий воск, думая о тех, для кого этот летний день далекого сорок второго блокадного года должен был быть днем спасения, а стал днем последним. Выйдя из храма, она знала, что не случайно оказалась год назад в этой, одной из самых старых в городе, церкви. Она знала, что вернется сюда снова…
…Собирались быстро. Накануне вечером Александра, придя домой и обнаружив в комнате одного Борьку, тут же, не снимая пальто, в которое куталась, несмотря на теплую погоду, вернулась на лестницу, спустилась на полпролета и выглянула во второй двор. Там, в колодце, образованном четырьмя стенами, из которых только одна имела окна и арку входа, а три другие по всей высоте были глухими, стояли друг против друга две старые садовые скамьи, облюбованные девчонками. Эти скамейки кто-то из молодежи притащил сюда еще до войны, и, когда зима закончилась и стало тепло, дети начали собираться там и сидеть часами. Стены были невысокие, всего в два и в три этажа. Они не загораживали солнца, и дворик был сухой и светлый. И сами по себе эти стены в глазах детей были красивые и таинственные, потому что облупившаяся почти полностью штукатурка обнажила старую кирпичную кладку и сделала их похожими на башни средневекового замка, а крошечные и узкие, местами зарешеченные или заложенные кирпичом оконные проемы кладовок и чуланов напоминали бойницы.
Александра, опершись рукой о подоконник, позвала:
– Валя! Валя! Поднимись домой! Скорее, дочка, пожалуйста.
В комнату вошла Валентина и остановилась, опершись плечиком о косяк двери. На ногах у девочки были коричневые туфельки с хлястиками на пуговицах, купленные перед войной для школы.
– Валя, тебе туфли не малы, не жмут еще, а?
Девчушка прижала подол к коленкам и посмотрела на свои ноги.
– Неа, не жмут. Мама, я там с Клавкой и с Верой, и Люся из двадцать восьмого двора…
– Валечка, постой, подожди… – Александра снова прижала руку к груди и осторожно откашлялась. – Не ходи никуда, нам надо собираться, мы уезжаем, в эвакуацию, мне сегодня на заводе сказали, списки зачитывали…
Девочка молча и внимательно слушала сбивчивую, взволнованную речь матери.
– А Борька тоже едет?
Валя посмотрела на маленького брата, который сидел на полу посреди комнаты, раскинув и вытянув ножки в войлочных тапках, и, насупившись, пытался отстегнуть лямку своих коротких штанишек.
– Ну конечно, доченька, как же иначе то! Мы все едем, все трое. Помоги мне. Надо белье, теплые вещи, зимнее все… Давай, девочка моя, нас завтра рано утром отправляют, в пять уже на пристани…
Валя открыла шифоньер и начала выкладывать на кровать все необходимое. Потом остановилась и повернулась к Александре:
– Мама, а девочкам сказать, попрощаться…
Александра положила на стол бабушкину бархатную, вышитую бисером сумочку, в которой хранились хлебные карточки и документы, присела перед дочерью и привлекла ее к себе. Их глаза оказались на одном уровне.
– Обязательно, Валечка. Мы с тобой сейчас все соберем, приготовим, и у тебя будет время увидеться со всеми. Обязательно. А я спущусь к Степановым и оставлю Галине Георгиевне твои ключи, мало ли что, на всякий случай, и к управдому зайду, скажу…
Александра, продолжая обнимать дочку, задумалась. Валя постояла, потом спросила:
– Мама, а где, куда мы поедем, там…
– В парткоме сказали, что, скорее всего, нас отправят в Казахстан, это в Средней Азии, ты у меня уже большая, должна знать, где это… – ласково сказала Александра и поцеловала Валю в щеку.
– А там война будет? – тихо спросила девочка…
Когда они вышли на улицу, комендантский час еще не закончился, и их дважды останавливал патруль. Александра показывала военным бумаги, выданные ей на заводе, те проверяли их, брали под козырек, и они шли дальше. Маленький Борька толком не проснулся, и Александра несла его на руках, а два больших узла связала между собой отцовским ремнем и перевесила через плечо, один спереди, другой сзади.
Так они дошли до пристани. Народа там было уже очень много, тысячи две-три, а может быть, и больше. Столько людей за раз Валя раньше видела только на праздничных демонстрациях, Седьмого ноября или Первого мая.
Несмотря на многочисленность собравшихся для отправки, на причале царил порядок. Всем руководил пожилой военный. Он и трое его помощников отделили уезжающих от тех, кто пришел их проводить, потом всех эвакуируемых разбили на группы по предприятиям, от которых их отправляли, и начали перекличку.
Вале было интересно и весело, все походило на военную игру, которую проводили для пионеров в лагере позапрошлым летом, и им, октябрятам, разрешили принять в ней участие тоже. Те, чьи фамилии выкрикивал военный, брали свои вещи и быстро шли к трапу одной из пришвартованных барж.
Барж было три. Огромные, широкие, неуклюжие с виду суда с выкрашенными черной краской бортами стояли друг за другом. У дощатых сходен, переброшенных с борта каждой на гранит набережной, находились еще военные, молодые, в другой, не такой, как у пожилого, форме. Они проверяли бумаги у отправляющихся, и те поднимались на борт.
Проснувшийся наконец маленький Борька, зацепившись пальцами за накладной карман материного пальто и вертевший головой во все стороны – ему тоже нравилось все происходящее, – запрыгал на месте и позвал Александру:
– Мам! Мама! Беда!
В этот момент старший военный громко и четко назвал их фамилию. Александра подхватилась:
– Ах ты господи! Потерпи, маленький, сейчас на кораблик пойдем, там все и сделаем. Валя, возьми его за руку, держи крепко!
Она перекинула через плечо узлы, поставила детей перед собой, и они направились к старшему. Подойдя, Александра назвалась, пожилой военный кивнул и черканул карандашом на одном из листов, которые держал перед собой в раскрытом планшете, а стоявший рядом помощник сказал:
– На вторую, пожалуйста, – показал рукой на баржу и тоже что-то пометил в списке.
Они подошли к указанному судну и встали в конце очереди. Александра посмотрела на стоящих впереди. Их было немного, человек пятнадцать, двадцать от силы, и продвигались они быстро. Она нагнулась к сыну:
– Боренька, уже сейчас-сейчас, потерпи чуток, ты ведь у нас уже большой мальчик, правда?
Бориска хотел писать. Слово «беда» он подхватил у соседки по квартире, интеллигентной и образованной Анны Вячеславовны, до пенсии работавшей в библиотеке Пушкинского дома и которую во дворе за глаза называли «наша смолянка». Валя долгое время не могла понять почему, ведь старушка была совсем не смуглая и не черноволосая, а, наоборот, голубоглазая и светло-русая. Поломав голову, девочка спросила мать, и та сначала очень смеялась, а потом объяснила, что смолянками раньше, при царе, называли выпускниц Смольного института. Когда маленький Борька, начавший уверенно передвигаться по квартире, просился на горшок в присутствии Анны Вячеславовны, та качала головой и говорила: «Беда, беда, ой, беда-то какая, прямо беда», – и с этими словами вела крошку к туалету. Когда именно это слово укоренилось в лексиконе мальчика, никто не заметил, но все знали, что если он горестно взывает «Беда, беда!», то это означает, что ему нужно по-малому.