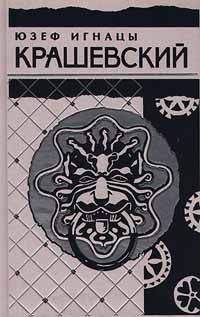на другой — скорбящей Матери Божьей. На столике под окном стояло белое распятие, засиженное мухами, окружённое несколькими книгами. Дальше — шкаф со стеклом, содержащий несколько книжек и сосудов. На камине в двух голубых чашах стояли ещё остатки высохших весенних цветов, которые в них увяли, не выброшенные, склонились и почернели.
На дверях, над окнами белым мелом были нарисованы кресты.
В другой комнате стояла узкая по-настоящему монашеская кроватка, покрытая суконным одеялом, с подушкой из сена. Над ней — крест, пальмовая ветвь и громница, ченстоховская медаль, венки Божьего Тела, у изголовья — столик с книгами. Немного одежды на вешалках, немного бумаги на полках и на столиках, недогаревшая свеча в подсвечнике и начатый текст проповеди.
Ничего больше; ничего, что служило бы для удобства, для удовольствия. Полное самоотречение было видно повсюду. Человек, который занимал это жилище, никогда также не помнил о себе, добрый с людьми, слабый ради них и потакающий, суровый к себе, был одним из тех редких феноменов, которые доказывают, что себялюбие не является обязательной осью, на которой вращается человеская жизнь.
Вернувшись из костёла, он сел в первой комнате у окна, положил бревиарий на колени и быстро читал молитвы; весь ими занятый, он заботливо переворачивал страницы; иногда становился на колени, крестился и бил себя в грудь.
Это был старый уже был человек, старше лицом, чем возрастом, потому что лицо имел бледной, худое, преждевременно лишённое свежести, глаза — почти погасшие, голову — лысую. И однако на лице блуждало выражение мягкости и доброты, и глаза, кажется, не умели глядеть строго. Наполовину сломленный, со скрюченными ногами, он гнулся к земле. Всё в нём объявляло доброту и излишнюю мягкость характера.
Ещё ребёнком, сын богатых родителей, он надел духовное облачение, ради увеличения братской части собственности он отказался без шума от света, имущества, семьи и всей душой отдался Богу. Бог ему заплатил за все жертвы.
Забыв, что родился и воспитывался в достатке, он стал бедным и смиренным, не хвалясь этим чувством долга. Слабость здоровья не освобождала его от самого тяжёлого служения бедным, от самых мелких обрядовых обязанностей священника. Не раз больной в горячке он машинально проговаривал свои капелланские молитвы. Не имея коней, он шёл пешим исповедовать, утешать и делиться последним куском хлеба. Самому также часто было нечего есть и Магда сурово его за это упрекала, когда он, мягко улыбаясь, отвечал ей только:
— Мне достаточно хлеба и воды, вполне довольно, мне даже есть не хочется.
Он никогда не хвалился тем, что делал; напротив, ещё оправдывался, как в грехе, в своих добродетелях, а обвинённый, никогда не защищался. «Терпеть ложь научил нас Христос, — говорил он иногда, — а терпеть её молча — ещё больше заслуга».
Люди его не понимали, он не обращал на них внимание; исполнив обязанности, свободные минуты он посвящал молитве, а в конце иногда уделял минуту доверительной беседе, в которую умел влить поучение. Но чаще всего учил примером, который, может, из невозможности подражания был непонятен, и менее эффективен.
Дома им распоряжались, как им нравилось, потому что домашними делами не занимался. Магда делала что хотела, отказывала в еде, когда хотела. Он никогда не жаловался. Совсем по-другому было в костёле; там приходской священник восстанавливал энергию, там царил, стоя у алтаря, украшая образы, один почти подметая. А когда наступал один из тех великих весёлых праздников нашей церкви, в которые принято украшать Божий дом, он всё делал своими руками.
Однажды упав с лестницы накануне праздника Божьего Тела, он сломал руку. Но, сам её перевязав, взяв в дощечки, не издав ни стона, он лёг спать, только постоянно повторяя:
— Не смогу завтра быть на святой мессе! Серьёзная для меня неприятность!
Не удивительно, что такой человек, как наш приходской священник, жил незаметно в деревне и не вырос в костёльных должностях. Однажды перед любившим его епископом, который желал его вытянуть и приблизить к себе, он встал на колени, и, плача, сказал:
— Буду послушен вашему пастырскому преподобию, но свой отъезд отсюда оболью слезами, кто же меня тут у моих бедных заменит? На высших ступенях есть много более способных, я не создан для них. Избавьте меня, пастырь, оставьте здесь и всю жизнь буду вам благодарен.
Епископ не настаивал больше и так священник остался на месте.
Теперь, когда мы узнали ближе особ, находящихся на крыльце дома священника, послушаем их разговоры. Легко догадаться, что кучка клехов говорила о себе и жаловалась на свою судьбу, по привычке, хотя тут меньше всего имела на это права. Священник не только им оплачивал из собственного кошелька, кормил, но ещё костёльные доходы, милостыню, пожертвования набожных по большей части отдавал им. И однако, слыша вокруг нарекания братьев клехов, и те жаловались на свою судьбу. Этот праздношатающийся гмин, как обычно люди, которые чего-то слизнули, и думают, что достойны лучшей участи, всегда считал себя самым несчастным, униженным, притесняемым.
Одна Магда принимала сторону ксендза, всё-таки невольно из чувства справедливости, и оттого, что в её понимании ксендз держал её сторону.
Просто опираясь на дверную раму, подняв голову вверх, она долго разговаривала с органистом, который вздыхал громче всех.
— Вам всё плохо и плохо, — говорила она, — хоть бы вам ангела с небес привести и тот бы не угодил таким бездельникам, которые бы брюхом вверх лежали весь Божий день, и ещё бы им еду в рот положить, а потом рожу вытереть… гм!
— Как хотите, — ответил сухой органист, крутя высохшими от жажды губами, — я свой.
— Поп свой, чёрт свой.
— Как хотите, я свой. Бездельники, говорите, бездельники! А ничего, что я каждый день для святой мессы играю и пою, а нешпоры и иные тяжкие работы. У нашего брата ни минуты отдыха нет.
— В самом деле? — воскликнула Магда. — Уж у вас и с ним плохо. А посмотрите-ка на соседей, где и оплату на несколько лет задолжали, а органист молотит или навоз на поле вывозит для пробоща.
— Аха! — отпарировал красный клеха. — А так они там меньше работают, чем мы тут. Только у нас по-настоящему тяжело. Минуты отдохнуть нельзя, мессы поёт и поёт, богослужения, Господи Боже, прости, сам сочиняет, таких даже ни в календаре, ни в рубрицели не найдёшь. Праздники придумывает, нешпоры инвентует, чтобы ему людей достойных мучить. Потому что даже и Господу Богу такая навязчивость не должна быть приятна, покоя ему не даёт. И оттого, что сам железный, думает, что и мы