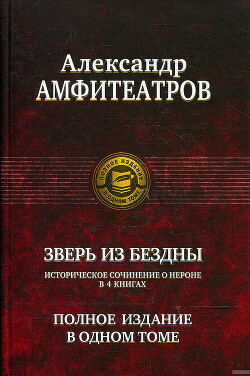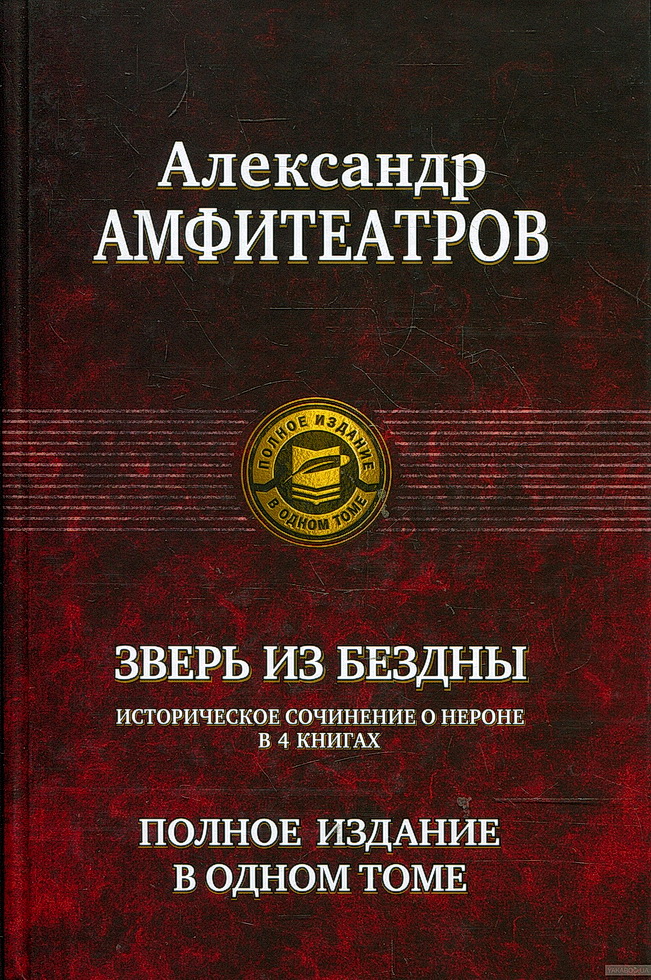Несчастный Нерон, полуодетый, «в худом плаще» — садится на «жалкую клячу» (романтическая прикраса Диона Кассия) и, закрыв капюшоном лицо, чтобы не быть узнанным, скачет в сопровождении трех-четырех вольноотпущенников, в том числе — Фаона, Спора, Неофита и секретаря своего Эпафродита. Было еще темно. Проезжая Коллинскими воротами, мимо лагеря преторианцев, он слышал крики солдат — проклятия ему и виваты в честь Гальбы, провозглашенного императором. Один прохожий показал на беглецов пальцем: «вот, скачут ловить Нерона». Другой спросил их: «А что в Риме слышно о Нероне?» Скачок лошади, шарахнувшейся от лежавшего на дороге трупа, стряхнул с головы цезаря капюшон, — его узнали. Ему удалось, однако, добраться до виллы Фаона; лошадь пришлось бросить и ползти по болотистому кустарнику на животе, прячась за камышами.
Актерское настроение и балаганный жаргон не оставили его и в такой крайней беде. Его хотят спрятать в каменоломне для добычи туфа, каких много в той стороне. Это дает ему повод сострить: «Не желаю живым идти в землю!» (negavit se vivum sub terram iturum). Остановка в каменоломне понадобилась потому, что Фаон, желая скрыть Нерона от людей своей виллы, не решился ввести его воротами, и надо было проломать стену в сад или подкопаться под ней, что ли. По Светонию выходит, что беглецы пробили брешь в самый дом, что мне кажется совсем невероятным, так как шум подобной ночной работы поднял бы всех обитателей виллы на ноги: какие там воры лезут со взломом? Пролезая сквозь пробоину, Нерон ругался, что она слишком тесная, а потом — уже в дому — брезгливо чистил плащ на себе от колючек, которых в саду набрался. Это, вот, жесты правдоподобные. Именно их и могла хорошо запомнить и рассказать прислуга, которая Нерона сопровождала, равно как ученому Эпафродиту естественно было запомнить цитаты, которые Нерон не переставал прибирать к жалкому своему положению. Вероятно и то, что, не решившись ввести Нерона из страха измены в приемные покои виллы, Фаон задержал его в одной из людских, быть может, в подвале, где бывшему государю пришлось прилечь на скверную циновку и покрыться рваным одеялом. Но плохо верится, чтобы в хозяйстве Фаона ничего не нашлось для голодного Нерона, кроме куска черствого хлеба, тем более, что достали же для него откуда-то теплой воды (aquae tepidae aliquantum bibit). По словам Плиния, Нерон не пил другой воды, кроме кипяченой и потом охлажденной. В бегстве, по дороге, напившись воды, зачерпнутой из выбоины в камне, павший цезарь, будто бы, не преминул вспомнить и эту свою прихоть:
— Вот она какова ныне вареная-то водица Нерона! (Наес est, inquit, Neronis becocta).
Впечатления страшной минуты отражаются в нем фейерверком классических цитат, пополам с остротами умирающего паяца. На каждый случай у него нашлось литературное воспоминание, изысканная антитеза: «Всего три вольноотпущенника остались у того, кто гордился когда-то многочисленной свитой!» Минутами ему приходили на память его жертвы, но не для того, чтобы потрясти душу его раскаянием, а лишь в виде нового предлога к риторической шумихе. Комедиант пережил в нем все. Его положение представлялось ему не более как драмой, которую он теперь репетирует к представлению. Вспоминая игранные им роли отцеубийц или обнищавших царей, он замечал: «А вот теперь я повторю эту роль на себе самом!» и скандировал стих, вложенный одним трагиком в уста Эдипа:
Супруга моя, мать, отец
Умереть мне велят!
Θανετν μάνωγε σύγγαμοζ μήτηο, πατηο. (Это театральное сближение принадлежит Ксифилину; Светоний говорит только, что стих этот обратил на себя внимание публики, когда Нерон исполнял свою последнюю роль в новой пьесе «Эдип Изгнанник».)
Неспособный ни на одну серьезную мысль, он приказал, чтобы ему вырыли могилу, как раз по росту, велел принести куски мрамора, воду и дрова, нужные для погребения, — все это с горьким плачем, с воздыханиями, охая и причитая: «Qualis artifex pereo!» «Какой артист во мне умирает!”
Курьер Фаона приносит между тем письмо из Рима. Нерон вырывает у него свиток и видит, что сенат объявил его, Нерона, врагом отечества и приговорил к казни по древнему обычаю. «А что это за обычай?» — спросил он. Ему объяснили: «Тебя разденут донага, шею защемят вилами и будут сечь тебя розгами, пока не наступит смерть». (Шиллер, вопреки Светониевой биографии Нерона, 49, отвергает этот мелодраматический эпизод; Нерон умер, не зная о состоявшемся приговоре сената.) Нерон содрогнулся, обнажил два бывшие при нем кинжала, попробовал их лезвия и спрятал их опять со словами: «Роковой час еще не наступил». (Nondum adesse fatalem horam.) Заставив Спора петь погребальные причитания, он опять пробует убить себя и опять оплошал. «Да неужели же не найдется никого, чтобы показать мне пример?» — спрашивает он с негодованием. И снова сыплет цитатами, говорит по-гречески, сочиняет стихи. «Ах, дрянно живу я, отвратительно! не годится так, Нерон, не годится! В подобных обстоятельствах надо действовать решительно! Ну-ка, ну-ка, подбодрись!» (Vivo beformiter ас turpiter: ού ποέπεί Νέρωνί, ού ποέπε’, νηφεlν ϑετ έν τοτζ τοlούτοlζ άγε έγεlοε σεαυτόν).
Вдруг послышался стук копыт: то мчался отряд всадников взять Нерона живым. Ιππων μ’ωϰυπόδων άμφί ϰτύποζ όύατα βαλλεί, — «Тяжкий топот могучих коней поражает мой слух», — продекламировал он по-гречески стих из Илиады. Тогда Эпафродит, потеряв терпение, схватил его руку, вооруженную кинжалом, налег всем телом, и оружие вошло в горло Нерона. Почти в ту же минуту вошел центурион. Он пытается остановить кровь, уверяет, будто явился, чтобы спасти императора."Sero!" — «слишком поздно! — возразил умирающий, страшно глядя на солдата глазами, вышедшими из орбит, остекленевшими от ужаса и заставившими присутствовавших затрепетать перед ним в последний раз, как перед чудовищным привидением... «Вот она какова, ваша верность!» (Наес est fides!) — прибавил он и испустил дух.
«Смерть грешника» свершилась по всем правилам мелодрамы. Добродетель восторжествовала, а порок издох, воя, подлецом и трусом. Хотя современник Нерона Дион Хризостом (Златоустый, Dio Chrisostomus Cocceius, ум. около 100 г.) говорит, что род смерти Нерона неизвестен (XXI, 9). А христианский уже поэт V века Апполинарий Сидоний имел о смерти Нерона, должно быть, какие-то совсем иные сказания, чем дошедшие до нас, потому что, по его словам, — «и Нерон моментом смерти своей доказал, что он мужчина». (Et vir morte Nero).
Нерон очень просил, чтобы его голову не отдавали на посрамление, но сожгли вместе с телом. Две его кормилицы, гречанки Эклога и Александра (см. т. I), и Актэ (см. т. II) — она все еще любила его — похоронили его в богатом белом саване, затканном золотом, со всей роскошью, которую, они знали, понравилась бы ему. Похороны его, которые, по обстановке, не могли быть тайными, обошлись в 200.000 сестерциев. Пепел его положили в родовую гробницу Домициев, — огромный мавзолей их возвышался на холме садов (Pincio) и имел весьма красивый вид с Марсова поля, сверкая алтарем из белого мрамора лунских каменоломен (Lunensis, из Луни, близ нынешней Каррары), над порфировой гробницей, в ограде из фазийского камня (мрамор с острова Фазоса, одного из Цикладских). Конечно, такого великого грешника земля не должна была принять так просто, точно обыкновенного покойника. Рассказывали, будто, при выезде Нерона из Коллинских ворот к вилле Фаона, перед его глазами упала молния, земля задрожала и разверзлась, и души всех им убитых встали из гроба, чтобы терзать его. В средние века гробница Домициев прослыла местом нечистым. Тень Нерона, выходя из гробницы, бродила по околотку в виде вампира. Чтобы положить конец этим явлениям и народному страху перед ними, папа Пасхалий II в конце XI века выстроил там церковь Santa Mariadei Popolo.
Так поутру с 8 на 9 июня 68 года погиб в тридцать один год от рождения, после тринадцати лет и восьми месяцев правления, последний принцепс римского народа, последний президент-диктатор римской республики, последний Юлий—Клавдий, последний Аэнобарб. Возможность устроить ему торжественные похороны странно противоречит известию, что сенат объявил его врагом народа, а народ радовался погибели Нерона, бегая в фригийских колпаках и вопя о своем освобождении... Что в таких людях не было недостатка не сомневаюсь. Но был ли это народ?