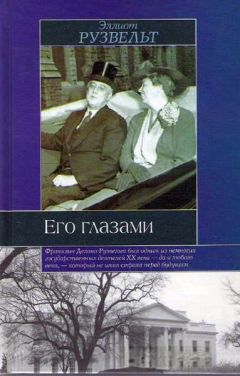Потом бросил собравшимся:
— Пока все свободны.
Грэйс Талли стояла у дверей, пропуская покидавших кабинет военных. Когда в комнате уже не оставалось никого, Рузвельт негромко произнес:
— Грэйс!..
Она выжидательно взглянула на президента.
— Мы кое-что запишем, — сказал Рузвельт.
Он вынул из пачки сигарету, тщательно вставил ее в мундштук из слоновой кости, закурил и глубоко затянулся.
Грэйс присела на край кресла возле письменного стола и положила на колени блокнот.
— Пиши! — повелительно сказал президент. — Завтра я выступаю перед конгрессом. Я хотел бы продиктовать мое послание. Оно будет коротким. Итак, пиши: «Вчера запятая седьмого декабря 1941 года запятая тире день запятая который войдет в историю коварства запятая тире на Соединенные Штаты Америки было совершено неожиданное и предумышленное нападение военно-морскими и военно-воздушными силами Японской империи точка абзац...»
Он продиктовал свое послание без единой запинки, не делая пауз и не внося никаких поправок.
Перепечатав текст, Грэйс по своему обыкновению подсчитала число слов: их оказалось около пятисот.
...Когда готовое послание было положено на стол президента, он приказал вызвать Хэлла. Государственный секретарь, естественно, ожидавший, что Рузвельт будет выступать перед конгрессом, принес с собой проект этого выступления, написанный Самнером Уэллзом.
Президент забраковал его без всяких комментариев и, указывая пальцем на листки, которые Грэйс Талли положила на его стол, коротко и категорично сказал:
— Этот.
Казалось, он верил в магическую силу своих слов.
Заседание кабинета министров Рузвельт начал словами, что это — самое драматическое совещание с тех пор, как Линкольн созвал своих советников в связи с началом гражданской войны. Затем он огласил проект своего послания. Заседание длилось около трех часов.
Принятые президентом лидеры демократической и республиканской партий в конгрессе предложили ему выступить на следующий день в двенадцать тридцать. Им он не прочел ни слова из своего послания. Может быть, потому, что был уверен: когда речь идет о жизни и смерти нации, межпартийным распрям нет и не может быть места.
А когда Грэйс докладывала ему о выпадах нацистской прессы? В тот же день?.. Нет, конечно, нет! Вскоре после Перл-Харбора, но, разумеется, не в тот же день. Когда это было? Она вошла с какими-то письмами, он подписал их и сказал:
— Я хотел бы знать, что пишет о событиях в Перл-Харборе наш друг Адольф Гитлер. Его так называемая пресса. Мы ведь продолжаем получать вырезки?
— Конечно, сэр, — ответила Грэйс, — сегодня утром я вложила в соответствующую папку последние из переведенных.
— Принеси! — сказал Рузвельт.
Через несколько минут Грэйс вернулась с несколькими машинописными страницами.
— Что это? — исподлобья взглянув на листки, спросил президент.
— Перевод вырезки из газеты эсэсовцев «Дас шварце кор». Передовая статья. Называется «Поэтому мы стали сильнее».
— Сильнее?.. Там что-нибудь говорится обо мне?
Грэйс замялась. Рузвельт бросил на нее строгий, проницательный взгляд.
— Да, сэр, — нерешительно произнесла она.
— Читай! — коротко приказал президент.
В течение нескольких секунд Талли перебирала страницы. Потом сказала:
— Вот. Нашла это место.
— Читай, — еще более настойчиво повторил Рузвельт и добавил: — Надо знать, как оценивают ситуацию враги.
Слегка приглушив голос, Грэйс Талли начала читать:
«Рузвельт уже давно провоцировал войну так открыто и так бесстыдно, после своего переизбрания он так цинично глумился над общественным мнением в собственной стране, так откровенно бахвалился своими воинственными планами, что теперь, издавая вопли, не имеющие ничего общего с триумфальным кличем, он выходит из своей прежней роли... Суп, который он теперь разливает, получился отнюдь не по тому рецепту, который якобы столь хитроумно был составлен его мозговым трестом».
Грэйс сделала паузу и, чуть приподняв брови, взглянула на сидевшего за столом президента. Губы его были плотно сжаты, глаза прищурены.
— Так, — помолчав немного, сказал Рузвельт, — значит, мы плохие повара. Читай дальше.
«...Тот факт, — еще глуше продолжала Талли, — что он сам представлял себе все совсем по-другому, — слабое утешение для Рузвельта. Этот, — Грэйс осеклась, произнесла едва слышно „о, боже!“ и снова стала читать: — Этот тщеславный павлин с его размягчением мозга, на фоне которого паралич его предшественника Вильсона кажется безобидным насморком, совершенно всерьез считал, что он сможет принудить мировую державу Японию капитулировать с отчаяния. ...Тот, кто ожидает от Рузвельта, что он хоть в какой-то мере будет считаться с такими понятиями, как честь, жертвенность и героизм, может с тем же успехом попытаться сделать из талмудиста в люблинском гетто почитателя духа „Эдды“».
Грэйс умолкла и опустила руку с листками.
— Это все? — спросил Рузвельт.
— Есть еще... карикатура.
— Покажи.
Она неохотно протянула ему один из листков. На фотокопии был изображен Рузвельт с непомерно массивной нижней челюстью. Под рисунком была короткая подпись.
— Ты знаешь немецкий, Грэйс? — спросил президент.
— Избави бог, сэр!
— Из-за твоего невежества переводить тебе должен я вместо того, чтобы ты переводила мне. Написано здесь вот что: «Если нижняя челюсть такая тяжелая, заткнуться, конечно, нелегко».
— А что такое люблинское гетто и «Эдда»? — нерешительно спросила Талли.
— Люблинское — одно из тех гетто, в которых хэрр Гитлер содержит и убивает евреев. А «Эдда» собрание древнескандинавских мифологических песен.
— Боже мой, — сказала. Талли, — людоеды ссылаются на литературный памятник!
— Ничего удивительного. Чем только не украшают себя людоеды!.. Все, Грэйс, спасибо. Тщеславный павлин позволяет тебе удалиться.
Талли медленно пошла к двери. Но у самого порога вновь услышала голос Рузвельта:
— Грэйс!
Она остановилась и обернулась к президенту. Ей показалось, что за эти короткие секунды лицо его обрело прежнее, спокойно-насмешливое выражение.
— Теперь я хочу тебе кое-что прочесть, — сказал он, открыл ящик стола и вынул пачку исписанных листков с приколотыми к ним конвертами. — Вот письмо, адресованное «Гремучей Змее Рузвельту». А вот — «Бесчестному Франклину Дефициту Рузвельту». А в этом письме три конгрессмена предлагают не мешать русским и немцам резать друг друга. Американские фашисты, Грэйс, — откидывая письма в сторону, сурово сказал президент, — куда опаснее, чем нападки хэрра Шикльгрубера на «тщеславного павлина»!
— Чего хотят эти люди?
— Они требовали фашистской диктатуры во время голодных забастовок тридцатых годов, они поносили полицейских, если те не применяли оружия против демонстрантов, и меня за то, что я не отдавал таких приказов, они называли меня «красным» и «слугой большевиков» за мой Новый курс... Словом, они хотели тогда и хотят сейчас, чтобы в Америке восторжествовал фашизм.
— Но у нас это невозможно! — воскликнула Талли.
— Да, я хочу верить Синклеру Льюису, — ответил Рузвельт, и Грэйс вспомнила, что именно так называлась антифашистская книга известного писателя, вышедшая лет шесть тому назад. — Но если наши фашистские ублюдки не замолчат, то я заткну им рот. Я! — громко произнес президент и стукнул ладонью по столу.
Потом он сгреб письма и бросил их обратно в ящик.
Почему, подумал Рузвельт, я вспоминаю все это сегодня, десятого апреля 1945 года? Теперь, когда Германия фактически разгромлена, а Япония... Да, на тихоокеанском театре военных действий кровопролитным боям конца еще не видно.
И все же почему? Почему вдруг нахлынули воспоминания о Перл-Харборе? Может быть, по ассоциации с мыслью, что Америка всегда опаздывает? Опаздывает не в создании арсенала, обеспечивающего потенциальную возможность нанести «первый удар». Это не путь к победе. Такая «победа» неизбежно заканчивается поражением. Только что весь мир стал свидетелем того, какая участь ждет тех, кто стремится поработить человечество, оглушив его «первым ударом»...
Нет, размышлял Рузвельт, мы опаздываем в другом: в решениях, основанных на здравом смысле. О, если бы можно было остановить колесницу времени, хотя бы стереть некоторые из ее следов. Остановить, отодвинуть далеко за порог тридцать третьего года и трезво отдать себе отчет в том, что на свет родилось новое государство. Великое государство, хоть и с иной политической системой... Но мы в те далекие времена предпочли интервенцию, а потом полтора десятилетия всячески поносили Россию и проклинали большевиков. Несмотря на кризис, царивший в Америке, мы пренебрегали необъятным русским рынком... Мы упорно отвергали советскую идею коллективной безопасности, а затем, по существу, приняли ее, но опять-таки долгие годы спустя, когда в Европе уже гремели пушки и всем здравомыслящим людям было ясно: если Гитлеру удастся разделаться с Англией и Россией, то вместе с Японией он возьмется и за Америку... Мы высокомерно фыркали: «Духовный союз с большевистской Россией? Нет, никогда, во всяком случае об этом не может быть и речи до тех пор, пока мы не придем к единому толкованию слов „цивилизация“ и „демократия“».