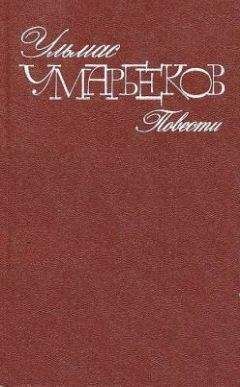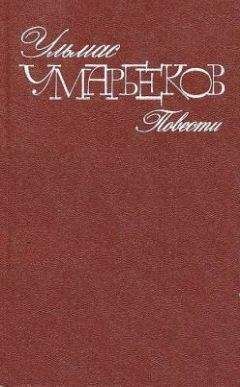Ах, судьба сыграла со мной злую шутку! Зачем не остался я в тихом Ургенче, вдали от страстей, опасностей и забот? Ведь если б я не уехал с Лойко в Хиву, жизнь, может статься, не послала бы мне тех испытаний, не стал бы я одиноким скитальцем в чужом краю, не измучил бы душу в тоске…
Но не дано нам знать наперед, чем обернется завтрашний день, и двигался я по жизни с закрытыми глазами. О, если б прозреть мне раньше, твердо стать ногами на землю, окрепнуть душой!.. Но нет — жизнь вела, несла меня, и я подчинялся ходу событий. Хотя, конечно, этого я не понимал — я пришел в себя, вернулся наконец к жизни после смерти родителей, будущее манило меня, я строил планы, собирался поехать учиться…
О радужные мечты, необузданные желания молодости, кого не манили вы призраками далеких столиц, и сверканием звездного неба, и пылью дорог, и шумом амударьинской волны на закате, и загадочной улыбкой девушки!..
О радужные мечты молодости, кого не обманывали вы и кто не предавал вас! Человек — раб судьбы своей… Нет! — скажете вы? Но я, я оказался рабом…
Я уже работал в Хиве на курсах ликвидации неграмотности, меня считали способным преподавателем, и когда в городе появились комсомольцы и образовался комитет комсомола, я готов был идти с ними.
Однажды на курсах, где я был учителем, объявилась комиссия из какого-то высокого правительственного учреждения. Комиссия проверяла всю работу курсов, и в том числе интересовалась классовым происхождением преподавателей. На мое счастье, в составе комиссии оказался и Лойко, он, видно, поручился за меня, поэтому мной особенно не интересовались, проверили только, как идет учеба. Когда комиссия закончила работу, председатель пригласил меня к себе. В кабинете находился Лойко. Он заговорщически подмигнул мне.
— Константин Степанович, — начал председатель комиссии, — хорошего мнения о ваших способностях, а мы — хорошего мнения о вашей работе здесь, на курсах. Нам нужна способная молодежь, вы неплохо зарекомендовали себя, и мы хотим предложить вам продолжить образование. Мы отправляем в Москву (сердце мое радостно дрогнуло!) группу молодежи — учиться. Вы можете поехать с этой группой.
От счастья я, как говорится, головой неба коснулся.
— Спасибо, спасибо… — благодарил я, а сердце прыгало в груди, и хотелось обнять их, председателя и Лойко, кричать от радости, бежать, оповестить весь мир о своем счастье — его и хватило бы на весь мир.
— Нам жаль отпускать хорошего преподавателя, но мы понимаем: через несколько лет нам понадобятся тысячи знающих людей, много тысяч, и времени терять нельзя. Не теряйте его и вы — жизнь открывает перед вами дверь в чудесный сад знаний… Дерзайте! Но это в будущем, а завтра приходите в комитет комсомола, мы говорили там о вас…
— Помнишь, — сказал мне Лойко, — помнишь мои слова, что знания — твое богатство? Не деньги, нет, а знания и работа для народа. Республика посылает тебя учиться!
Домой я прилетел как на крыльях, легкий и обновленный радостью. Здесь, в Хиве, я снимал комнату у старушки, сын которой, красноармеец, преследовал сейчас под Ходжейли отряд басмачей. Увидев меня, добрая старушка подумала, видно, что я заболел, — взмок, запыхался — бежал от самых курсов…
— Вай, что с тобой, что стряслось, сынок?
— Все отлично, не бойтесь, просто я еду в Москву! — Я обнял старушку. — В Москву, понимаете?
— Как, как? Москов?!
— Да, да, в Москву, там, в Москве, живет Ленин!
— Вай улай! — Изумленная старушка забыла закрыть рот, я же отправился к себе в комнату и стал перебирать свои вещи, не зная, что укладывать в первую очередь.
И вдруг я сообразил: «Дядя! Нельзя же уехать, не известив его!» Я написал короткое письмо и отправился на базар — там можно было встретить арбу с зерном, отправлявшуюся в Ургенч.
Я заплатил арбакешу, объяснил, кому передать письмо, и вернулся к себе.
Ночь тянулась без сна, счастливые мысли не давали мне заснуть, жизнь в столице представлялась раем. О чем я мечтал в те безмятежные часы? Кажется, я прожил в своем воображении целую счастливую жизнь. Если бы эти мечты сбылись! Но не дано нам знать наперед свою судьбу…
И на следующий день ощущение праздника не оставляло меня — радостные события сменяли одно другое, как в счастливом сне.
В комитете комсомола меня приняли как товарища по общему делу, как своего — да так оно и было в действительности. Я узнал, что в Москву едут учиться еще двенадцать человек и что вся группа отправляется через два дня… Как провести их, как дождаться отъезда? — время, прежде несшееся вскачь, теперь будто застыло.
Простившись с работниками комитета, я брел в задумчивости по улице — и вдруг звонкий девичий голос окликнул меня:
— Бекджан!
Я обернулся и увидел девушку в кожаной куртке, в каких ходили у нас в городе комсомольцы: девушка была очень красива, и почему-то запомнились мне тугие ее косы, черной короной уложенные вокруг тюбетейки. Я смотрел — и узнавал, и не узнавал, и, наверное, глупо таращил глаза, потому что девушка рассмеялась и спросила:
— Не узнаешь?
Но я увидел уже знакомую ямочку на щеке и обрадовался:
— Гавхар!
Мы подали друг другу руки.
— Что, сильно я изменилась?
— Очень! Совсем большая стала, а?
— Ты тоже переменился… Я не сразу поняла, что это ты. Гляжу — и понять не могу, кто ж такой? То ли ты, то ли похожий кто…
Она снова рассмеялась, а я слушал и все не мог отвести от нее взгляд.
Наконец я почувствовал неловкость — нельзя лее любоваться девушкой и ничего не говорить ей. Я смущенно откашлялся и спросил:
— Слушай, а как ты здесь оказалась?
— Да я вот тут работаю, — она кивком указала на комитет комсомола. — А ты?..
— А я уезжаю… через два дня. В Москву, учиться!
— Как, в Москву?! — Гавхар радостно захлопала в ладоши. — Я ведь тоже еду!
— Правда?! — Я схватил ее за руки и счастливо смеялся, а говорить больше ничего и не нужно было уже… — Слушай, что мы тут стоим, идем пройдемся по городу, ведь надолго уедем…
— Идем… Подожди меня здесь, я скажу на работе.
Гавхар побежала к дому комитета комсомола, а я, как во сне, глядел ей вслед…
Гавхар была родом из того же кишлака Чалыш, что и я, и знали мы друг друга с детства. Дом их стоял у самого берега Амударьи, отец ее рыбачил и еще работал в мастерской, где ремонтировали баржи, ходившие по реке до самого Арала, — но все равно семья их жила бедно, гораздо беднее нас. Я любил играть на берегу, у дома Гавхар, и подружился с ней.
Гавхар очень уж сильно отличалась от всех других девочек кишлака и пользовалась неслыханной свободой — как я сейчас понимаю, оттого, что отец ее работал в мастерской вместе с русскими рабочими и дружил с ними. Рабочие любили Гавхар и, когда она приходила к отцу в мастерскую, старались угостить чем-нибудь повкуснее — то пряником, то куском сахара. А вот родственники наши не одобряли ни Гавхар, ни ее отца, — меня даже бранили, если становилось известно, что я был в мастерской… Но мне и горя мало! Гавхар любила принимать участие в наших мальчишеских затеях и играх, но часто мы с ней, оставив приятелей, уходили вдвоем вдоль реки, далеко-предалеко, или смотрели, как работают в мастерской… Когда я выходил из дома, я всегда знал, где найти Гавхар: летом чаще всего мы сидели вдвоем на берегу Амударьи в зарослях джиды, болтали, мечтали, смеялись, выдумывали разные разности, и нам не бывало скучно друг с другом.
А когда наступали сумерки, и воздух наполнялся стрекотом кузнечиков, и начинали свой концерт лягушки, а от кишлака слышалось блеянье ягнят, мы поднимались на холм возле зарослей джиды и слушали в прохладном воздухе нехитрую эту мелодию, и было нам страшно и хорошо в темноте среди звуков ночи, и все это еще больше сближало нас…
Однажды, как раз перед нашим отъездом в Ургенч, Гавхар упала с дерева и вывихнула ногу. Позвали скорей моего отца, и он сердито ворчал — никогда, мол, не видал такой озорницы, безобразие какое!
А мама моя смеялась и сочувствовала. Может, даже завидовала такой свободе, а?
Через несколько дней мы всей семьей уезжали в Ургенч.
Я пошел проведать Гавхар — она лежала на веранде, на тахте, и скучала и маялась без беготни и игр. Увидела меня — обрадовалась, заулыбалась, попробовала подняться. Но разговор вышел грустный.
— Значит, уезжаете?
— Да, завтра…
Она молчала, я тоже, — у меня комок подступил к горлу… Ну зачем, для чего родители переезжают в Ургенч? Чем здесь было плохо? Как я не любил их в эту минуту, как хотел остаться!
— Ау нас корова отелилась! — сказала вдруг Гавхар.
— Когда?
— А ночью… Теленочек красивый такой, я за ним ухаживать буду… А завтра мы молозиво будем варить. Ты любишь?
— Да.
— Я тоже… Я уже ела один раз — ох, до чего сладкое! — она даже зажмурила глаза от удовольствия. А когда открыла их, они снова были грустные. — Значит, мы теперь больше не увидимся?