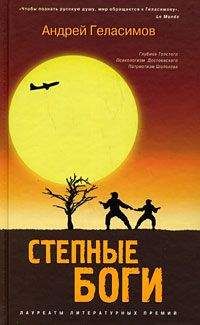«Стрельни в голову», — сказал он, когда вокруг захрапели чекистские кони, и было непонятно, кого он просил добить — то ли лошадь, то ли самого себя.
За незаконный переход границы старик Брюхов получил два года. Если бы не успел утопить товар в полынье, сгинул бы в лагерях навечно. Соседу за лошадь с санями велел отдать сруб нового дома.
В лагере он выучился бондарскому ремеслу. Вернувшись в Разгуляевку, стал делать бочки и первую же повез через Аргунь. У него были свои счеты с колхозной властью.
Артем, живший уже отдельным хозяйством, состоял в колхозе, но тоже потихоньку начал помогать тестю возить бочки в Китай. Веселые песни петь со временем он разучился, а народившихся детей надо было чем-то кормить. Брюховский скот в разгуляевском колхозе давно съели.
Из-за того, что возил старик Брюхов теперь немного, чекисты его больше не беспокоили. У них хватало своих забот. Через границу в Китай постоянно ходили бывшие красные партизаны, которым после Гражданской войны все не сиделось на месте и у которых руки чесались пограбить осевших на той стороне вдоль железной дороги семеновцев и староверов. Маньчжурское правительство заявляло протесты, грозило ответными мерами, а отдуваться за все приходилось чекистам и пограничникам. Этих красных партизан остановить было не так-то легко. Время от времени на сопредельную территорию уходили группы до тридцати, а иногда — до пятидесяти сабель. И все они, между прочим, были свои. Но по-хорошему договариваться не хотели. Куда тут гоняться за полоумным дедом? Каждый сотрудник и без того был на счету.
В конце концов, старик Брюхов сам оставил в покое Советскую власть и прекратил свой бесконечный спор с нею, замерзнув однажды насмерть прямо на льду. Вокруг его закоченевшего тела обнаружили множество волчьих следов, и в Разгуляевке пришли к мнению, что волки настигли его на реке, но почему-то не стали нападать, а просто уселись вокруг него и ждали, пока он замерзнет. Как будто сама Аргунь наконец решила его остановить.
И все же старик Брюхов, уходя, сумел высказать остающимся свое коренное мнение. На правой руке, которую он держал прямо перед собой, застыл твердый, как камень, кукиш. Перед похоронами сыновья пытались разогнуть ему пальцы, но у них ничего не вышло, и, пока не заколотили, Иван Николаевич лежал в гробу, выставив на всеобщее обозрение крепкую казацкую фигу.
Михайловы на людях Петьку не признавали. Им было плевать, что у него такие же черные волосы, как у них, такая же смуглая кожа и такой же узкий, с маленькой горбинкой нос. Чижовы все были рыжие, с круглыми лицами и конопушками, но Петька в сельсовете был записан именно как Чижов. Просто такой вот уж получился.
Михайловы усмехались и говорили: «Мало ли что чернявый. В Разгуляевке донских и без нас хватает, и у каждого чуб, как деготь. Всех, что ли, теперь в родню записать? Дураков ищите в другом месте. У вас, у чалдонов, все не как у людей. А Нюрка ваша сама, как коза, по огородам скакала. Вот и допрыгалась. Меньше надо было на завалинках торчать. Следили бы за ней, не маялись бы теперь со своим выблядком. И Митька наш совсем ни при чем».
Но Митька был, конечно, при чем. Иначе его братья не сидели бы дома, когда дядька Юрка и дядька Витька бегали за ним по всей Разгуляевке с кольями в руках. А они сидели. И на подмогу младшему брату не вышли. Потому что у каждого своя семья, потому что серьезные мужики, и, вообще, Митька к тому времени для них был ломоть отрезанный. Да и нож, которым отрезали, был какой-то кривой.
Разгуляевские старики про Митьку с самого начала говорили: «Вырастет гаденыш — житья от него не будет. Намается с ним Наталья. Жалко — отца нету. Было бы кому драть».
Но житья не было уже тогда. Не надо было даже ждать, пока вырастет. То в чужом огороде поймают, то из школы за уши приведут. Носился по Разгуляевке, как Красная конница — рубаха пузырем, глаза ошалелые. Однажды залез в погреб к колхозному счетоводу, выпил все молоко из крынки, а потом в нее взял и нассал.
То есть колотить было за что.
Но и любили его тоже сильно. Надают подзатыльников и говорят: «Не ори. Тащи гармонь свою, змей». И улыбаются. Потому что на гармони лучше Митьки никто не играл. Девки к нему так и липли. Даже взрослые парни ему завидовали. Даже Костя Чуваш, у которого мать была продавщицей.
И научился-то всего за две ночи. Братья разок отдубасили, за то что после работы спать не давал, но потом сами рты пооткрывали: «Подожди-подожди, а „Цыганочку“ можешь? А „Цыганочку с выходом“? Ну, покажи… Н-да, паря… Короче, пойдешь с нами сегодня к девкам. Гулянка у нас».
А Митьке тогда только-только двенадцать исполнилось. Гордый перед другими пацанами ходил — куда деваться.
Потому что Чижовых, например, Юрку с Витькой на гулянки еще никто не звал. С Митькой по Разгуляевке они только днем, башку завернув, вместе носились. Вечерами к большим девкам он ходил без них. Остальным пацанам можно было разве что в окошки заглядывать. Смотреть, как Митька там на гармони наяривает, а девки его дергают за вихры.
Но с Чижовыми Митька дружил. Соседи, во-первых, а во-вторых, почти с одного года. В школе все втроем на одной лавке сидели. И рядышком Нюрка носом хлюпает. Хоть и на три года младше. В разгуляевской школе малышню отдельно никто не учил.
Анна Николаевна говорила: «А ну-ка, Нюра Чижова, расскажи нам стихотворение великого поэта Демьяна Бедного». Нюрка вскакивала, довольная, глаза блестят, и в двадцатый раз тараторила: «Про землю, про волю, про рабочую долю». Картавила немного, но Анне Николаевне нравилось. Она стояла в углу и кивала на каждую строчку, как лошадь почтальона дяди Игната, когда ей мухи лезут в глаза.
Митька, который со слуха успел уже выучить все наизусть, сидел сзади и передразнивал: «Про Колю, про Толю, про ёблю, про волю». Но Анна Николаевна его не слышала, потому что стояла от него далеко. А Юрка с Витькой все слышали, и Митькины стихи им нравились больше стихов поэта Демьяна Бедного. Они толкали друг друга ногами под лавкой, хихикали и ждали от Митьки продолжения. Нюрка тоже слышала, поэтому сбивалась, начинала опять, и по лицу Анны Николаевны пробегала легкая тень грусти.
Митькина мать, тетка Наталья, хоть и выслушивала постоянно жалобы от других баб, младшего своего сама никогда не лупила. «Хотите, — говорила она соседкам, — бейте. Если догоните». И улыбалась такой же, как у Митьки, щербатой улыбкой. Сдувала опилки с ладоней, отбрасывала прядь волос с мокрого от долгой работы лба. «А мне за ним по заборам скакать некогда. У меня в доме мужика, поди, как у вас, нет. И завестись ему, бабы, неоткуда. От сырости, разве что. Вы бы подбросили одного какого-нибудь на расплод, ненужного. Эй, вы куда, бабы? Я думала — пока с вами болтаю, немного хоть отдохну».
Митьку она любила так сильно, что прощала ему абсолютно все. Даже потом, когда не дождалась с войны двух старших, простила ему то, что он вернулся, а они нет.
* * *
Воровать контрабандный спирт у деда Артема начали как раз после Митьки Михайлова, еще в тридцатых годах. Первым заветный жбанчик спер именно он. До него дед Артем спокойно колотил свои бочки, а потом увозил их для обмена на китайскую сторону. Единственной угрозой его торговле до поры до времени был, пожалуй, только он сам. На то, чтобы удержаться и не выпить сладкого китайского зелья, не хватало никаких сил.
Несколько раз он напился так крепко, что в бане из поддувала полезли черти — наглые, жирные — размером, наверное, с петуха. Тонкими бабьими голосами они смеялись над Артемовой наготой и тыкали в него пальцем. Пока затолкал их обратно, едва не угорел. Какая уж тут торговля?
Дарья, взволнованная потерей прибыли, слегка побила его коромыслом и придумала прятать товар в степи. Мотаться туда, чтобы выпить «грамульку», Артему было уже не так просто. Пока запряжешь, пока доедешь — всякое желание пропадет. Да еще дорога назад. Кому интересно, выпив, возвращаться в Разгуляевку трезвым?
А покуражиться?
В общем, идея всем показалась разумной. Артем брал с собой своих пацанов, те носились рыжими шариками по степи, заглядывая в норы к тарбаганам, а он сам тем временем выкапывал ямку для жбанчика, делал приметный знак и сидел потом на земле рядом с телегой, покуривая, глядя на подпрыгивающие невдалеке рыжие, как вечернее солнце, головки, улыбаясь и размышляя о сыновьях, об отцах, об облаках в небе и о загадочной сути всей жизни вообще.
«Вот, ети ж его!» — делал он, в конце концов, вывод и поднимался на ноги.
«Ю-у-урка! Ви-и-итька!»
Ветер разносил его крик по степи, мальчишки застывали на месте, сами на секунду делаясь похожими на испуганных тарбаганов, потом срывались и летели, не разбирая, что там у них под ногами, к машущему рукой отцу, а тот смотрел, как они бегут, щурился на заходящее солнце, приставлял ладонь козырьком ко лбу и опять с задумчивой радостью повторял: «Вот, ети ж его!»