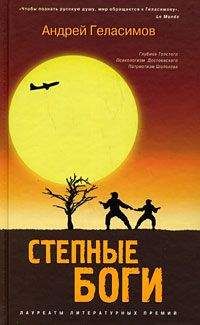«А ну, быстро в класс! — задыхаясь, говорила после победы Анна Николаевна и вытирала со лба блестящие капельки пота. — Марш, я кому говорю!»
Все возвращались, но потом еще долго посматривали на окошки, надеясь, что Настюха придет опять.
Юрка с Витькой больше не сидели с Митькой на одной лавке. Он вообще одно время перестал вдруг ходить в школу, но Анна Николаевна поговорила с теткой Натальей, и та загнала его граблями на чердак.
«Не будешь ходить в школу — жрать больше не дам. Можешь там на чердаке сдохнуть».
И убрала лестницу.
Митька легко мог спуститься оттуда без всякой лестницы — и не с такой высоты летал, — но почему-то сидел тихо. Слушал — чего ему мамка говорила через потолок.
«Ну, ведь четырнадцать уже годов! Совсем сдурел, или чо? Я не знаю. Ну, куда ты без школы? Кому ты нужен со своими железками? В райцентре скоро МТС откроют. Думаешь, тебя без школы на тракториста учиться возьмут?»
«Давай, мы его сымем оттуда, — говорили старшие братья. — Да хорошенько ему накостылям».
«Я вам накостылям! — отвечала тетка Наталья. — Так накостылям, что садиться не на чо будет!»
Потому что она знала, что Митька совсем другой. Не такой, как его братья. У него голова была устроена совсем не так. И руки.
«Слышь, Наталья, — говорил председатель. — Толкни Митьку ко мне. Молотилка колхозная опять сломалась. Ети ее».
И тетка Наталья толкала. А Митька чинил. Походит вокруг, почешет в затылке, свистнет, дернет за что-то — и она пошла. Застучала, закрутилась, родная, замолотила.
«Ты смотри! — удивляется председатель. — Даром что шарозаворотный такой».
«А ты думал! — усмехается в ответ тетка Наталья. — Иди поищи таких шарозаворотных».
Поэтому на чердаке Митька сидел недолго. К тому же на гулянках по вечерам без его гармони девки почти не давали парням лапать себя. Разве только чуток.
Скучно им было, пока Митька на чердаке без жратвы сидел. Неинтересно.
А как только Митька вернулся в школу, снаружи к окнам Настюха стала прилипать. Почти сразу. Как будто только его и ждала, чтобы позлить Анну Николаевну с дедом Семеном. Знала бы она, как трудно потом успокоить всю эту малышню.
Наверное, тогда бы не лезла.
* * *
Настюха не сразу, но все-таки догадалась, что Анна Николаевна ее не любит. А сторож Семен — вообще плохой человек, потому что закопал своей лопатой все ямы под школьным забором, и теперь ни собаки, ни Настюха не могли туда больше пролезть. Мерзкую лопату Настюха нашла и сломала, но ждать, пока ее друзья-собаки снова пророют для нее ход, она не могла. Сказав своим приятелям, что ей туда больше не надо и что если они откопают, то пусть лазят туда без нее, Настюха перебралась на другой конец Разгуляевки. Она уже выяснила, куда Митька ходит еще чаще, чем на гулянки к взрослым парням.
Сначала она просто сидела на земле и смотрела издали на открытую дверь, но потом, когда привыкла к постоянному звону и скрежету, которые доносились оттуда, и поняла, что ни сторож Семен, ни Анна Николаевна не прибегут сюда, чтобы бороться с ней, Настюха стала передвигаться поближе к сараю и наконец заглянула внутрь.
Туда, где возле какой-то большой железяки перепачканный Митька зло и весело колотил молотком.
«Жрать хочешь? — сказал он, поднимая голову. — Видала, что я в речке у обрыва нашел? Починю — мой будет. Настоящий».
Настюхе в сарае у Митьки очень понравилось. Она даже сбегала к своим друзьям-собакам и похвасталась, как там внутри хорошо. Ей так все понравилось, что скоро она даже смогла выучить некоторые волшебные слова. Когда Митька говорил «напильник», она бросалась к напильнику и почти ни разу не ошибалась. А когда он говорил «тиски» — Настюха гудела ртом и закручивала тиски. Потому что она была сильнее, и ей нравилось, что Митька не мог раскрутить тиски после того, как она их закрутила.
А он злился и кричал на нее: «Давай, дура, раскручивай назад!»
Но Настюха знала, что Митька будет злиться недолго. Позлится, потом сходит домой и принесет хлеб. И картошку. Горячая такая еще. Но у Настюхи ладони от тисков уже твердые. Раздавливает картоху в лепешку, смеется и толкает ее в рот.
«Ну, кто так ест, дура! — говорит Митька. — Вот дура! Смотри! Надо вот так».
А Настюха знает — как надо. Просто ей весело, и она хочет, чтобы Митька ей опять показал. Она любит, когда Митька показывает.
Он говорит: «Поняла? Ну-ка, сама давай».
Настюха берет еще одну, заталкивает ее себе под мышку и быстро раздавливает ее там.
Горячо.
«Ну и дура же ты!» — говорит Митька. Но сам смеется.
«А я буду трактористом, — рассказывает он ей. — Понимаешь? На тракторе буду ездить. Ничего не понимаешь, дубина еловая. На тракторе — это как командир дивизии. Или даже — армии. Поняла? Все в говне ковыряются, а я — на рычагах. За полкилометра здороваться будут. Потом вообще уеду отсюда. В Москву хочу. Там, знаешь, как трактористы нужны! Ну, и чего ты лыбишься? Дубина еловая. Ничего ты не понимаешь. Сиди здесь, я скоро приду. Попробуй только еще раз за мной увязаться. Поколочу, как вчера. Поняла? Ну, и чего заревела? На вот, хлеба возьми».
Настюха терпеливо ждала Митьку, изредка выглядывая из дверей, прислушиваясь к далеким переливам его гармони, рассматривая звезды в большом небе и произнося звуки «о». Прибегали друзья-собаки, звали побегать ее с собой, но она каждый раз им отказывала. Настюха не могла пропустить Митькино возвращение.
После гулянки, перед тем как пойти домой, он всегда забегал к ней в сарай, и они ложились на овчинный тулуп, подперев дверь поленом. Настюха закрывала глаза, вытягивала над головой длинные руки, время от времени стукаясь костяшками пальцев о разбитый ствол пулемета, который Митька так и не починил.
А через некоторое время у нее заболел живот. Очень сильно.
* * *
После выкидыша Настюха перестала глупо смеяться, дружить с собаками, косить глазами и выглядывать из сарая по вечерам. Ее глаза теперь смотрели совсем прямо и часто с удивлением останавливались на Митьке, как будто спрашивая: «А это еще что такое?»
Когда он попробовал снова уложить ее на овчинный тулуп, она толкнула его так сильно, что он отлетел к стене, опрокинув по дороге свой неисправный пулемет. Сила у нее осталась прежняя. Но все остальное изменилось.
Даже имя.
Сначала Митька не обратил внимания на то, что она перестала радостно оборачиваться, когда он звал ее Настюхой, и ему приходилось теперь подходить к ней и толкать ее в плечо. Но после того, как она несколько раз толкнула его в ответ, он начал задумываться. Что-то странное было в этой спине, которую он теперь постоянно видел вместо расплывающегося в тупой улыбке косоглазого лица.
«Настюха», — говорил он, и эта спина даже не шевелилась. Так и продолжала лежать в углу на том самом тулупе, который теперь принадлежал ей одной. «Настюха», — повторял он, но ничего в выражении этой спины не менялось. Она не становилась ни более замкнутой, ни более приветливой. Спине было все равно.
Однажды спина заворочалась, и вместо нее появилось очень усталое и очень печальное лицо.
«Мальчик, — сказало лицо. — А почему ты все время говоришь „Настюха“?»
Оказалось, что Настюха — это не Настюха, и до Разгуляевки ее звали Любой. До того, как она сошла с ума и уехала из своего первого места. Оттуда, где все умерли. Но об этих мертвых она вспомнила не сразу. Только потом. Когда бабы стали расспрашивать ее, поняв, что она вдруг изменилась. К этому времени она уже больше не возвращалась в Митькин сарай. Снова жила на сеновале у дяди Игната.
«Слышь, девушка, — говорили бабы, разглядывая ее новое лицо. — Дак он чего там с тобой делал-то, засранец, в сарае? Может, мы того? Сходим к Наталье?»
Люба-Настюха пожимала плечами, потому что она ничего не помнила. Даже то, как приехала в Разгуляевку, она вспоминала с трудом.
«Ну, ты же на станции была, — говорили бабы. — Значит, на поезде ехала. А до этого? Может, ты из Читы? Или с Иркутска? У них там, знаешь, еще Ангара. И озеро большое. Байкал помнишь?»
Но Люба-Настюха не помнила Байкал. Она рассказала, что у нее были брат и сестра и что они оба умерли, потому что очень хотели есть и сварили ежика, но не могли дождаться, пока закипит вода, и съели его вместе с иголками. И от этого у них изо рта пошла кровь, и они кричали, и царапали стены. А братик особенно сильно кричал. И у него были русые волосы. А потом умерли родители, и она сидела с ними в доме одна, потому что в других домах тоже было много мертвых, и она боялась туда ходить. А своих мертвых она не боялась. Она их знала. Но хоронить их никто не пришел. А она ела траву и поэтому осталась живая. Правда, трава была горькая, и от нее она, наверное, сошла с ума.
«Из Самарской губернии она, — сказал председатель. — Там сейчас голод. Я на совещании в районе слыхал. Только смотрите у меня! Чтоб никому! Про этот мор слухи распускать запретили».