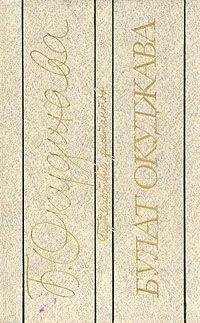– Что за похороны? – спросил барон.
Процессия остановилась. Оркестр умолк. Все оборотились к Мятлеву. Князь Сергей, прикусив добела губы, торжественно, насколько позволяла грязь, подошел к коляске барона.
– Корнет, что все это значит? – шепотом спросил командир полка. – Что это… кто это… кого вы хороните?
– Вас, ваше превосходительство! – звонко отрапортовал юный князь. – Все огорчены. Прошу принять наши соболезнования…
Буря разразилась мгновенно, но то ли командир полка не был в числе любимцев у государя, то ли расстояние до Петербурга рассеяло удар, во всяком случае громы прогрохотали в вышине, а Мятлев получил новое предписание, сел в карету вместе с поваром и слугой Афанасием и отправился на Кавказ. О боевых делах он рассказывал неохотно, но мне–то было известно со стороны, как он там играл со смертью. Тяжелая рана принесла ему прощение. Внезапная смерть старого князя смягчила сердца богов, и Сергей Мятлев, словно блудный сын, вернулся под кавалергардский кров.
Кстати, о тяжелой ране. С нее–то, кажется, и начались внезапные и неведомые приступы дурноты, время от времени овладевавшие Мятлевым. Предугадать их было невозможно, сколько мы ни пытались. Врачи, пользовавшие его в разные периоды, единодушно отвергали мысль о возможной падучей. Да и течение приступа нисколько не напоминало известную и отвратительную болезнь. Начиналось это с бледности, которая мгновенно покрывала все лицо, на губах появлялась виноватая улыбка, взгляд тускнел, безволие сковывало члены. Он говорил невпопад, шел, куда не намеревался, соглашался со всем, что бы ему ни говорили, и при этом настойчиво старался вручить собеседнику деньги, какие при нем были… Однако это продолжалось обычно не долее минуты и исчезало почти бесследно, если не считать робкого желания остаться в одиночестве, наедине с графинчиком водки.
Не страдая никакими недугами, я жалел князя и советовал ему взять отпуск и укатить в мою благословенную Грузию, но он лишь посмеивался в ответ, в то же время не отказываясь от услуг бесполезных и бессильных врачей.
Я стал бывать в его доме. Там еще продолжало кружиться по инерции хлебосольное колесо празднеств и развлечений, но обороты его становились все реже и реже. Старое поколение покинуло этот мир или устало, новое имело другие наклонности. Мы быстро сошлись с Мятлевым. Служба в лейб–гвардии Павловском полку тоже не слишком меня обременяла. В союзе кавалергарда и павловца не было ничего зазорного, и мы обратили всю свою энергию на то, чтобы хоть как–то, как нам казалось, замедлить быстротекущую жизнь и попридержать покидающую нас юность. Не смею утверждать, дабы не прослыть исказителем истины, что лишь одни проказы и удовольствия занимали наши мысли и время. Нет, возраст коснулся и нас своей ладонью, образумливая и утишая. Лишь иногда теперь мы все же словно срывались с цепи и в каком–то не слишком веселом неистовстве принимались за осуществление своих фантазий, покуда снова не приходили в себя… Но это случалось все реже и реже, и все реже и реже князь появлялся в свете.
Золотое это племя давно успело показать ему свою пустую душу и острые коготки, и в его забавах Мятлев уже не находил себе утешения. Что же было делать человеку незаурядному, ежели заурядность одна признавалась в этом племени и одна не была гонима? Раствориться в нем и отдаться на волю волн? Этого князь не мог. Сам того не осознавая, он старался выплыть и барахтался в бездушном океане, иногда мстя ему в меру своих сил. Ах, эта месть – игра, да и только! Не велика беда для твоих хулителей – пьяное твое ожесточение, когда все кажется мало, мало, и фантазия уже граничит с безумством, и ты видишь мир поверженным и наказанным… Ан это ты сам, нализавшись, ровно мастеровой, полный бессилия и отрицания, тешишь себя вином. И все мало, мало, мало… Сначала пилось в больших компаниях, но круг сужался… Бывало, что князь прикладывался и в одиночестве. За ним уже успела установиться репутация человека опасного, отрезанного ломтя, изгоя, насмешника, способного на любой неожиданный поступок. Известно было, что государь его не одобряет, помнит его проказы и что, ежели разговор вдруг заходит о князе, откровенно морщится.
Вот каковы были обстоятельства, когда мы окончательно сблизились. Мы жили сегодняшним днем, не ожидая от будущего ничего, кроме мелких пакостей. Но жизнь есть жизнь. И, едва став почти безраздельным владельцем большого дома, Мятлев тотчас принялся устраиваться в нем по–своему.
В сапогах, в белой кружевной сорочке с распахнутым воротом, полный священного огня созидания, подобный вдохновенному зодчему, мелькал он то здесь, то там по дому. Он начал с третьего этажа и переоборудовал его, как я уже рассказывал. Второй этаж был оставлен в прежнем виде. Он состоял из нескольких помещений разной величины. Самое крупное – большая гостиная. Она имела овальную форму. Громадная витая бронзовая люстра нависала над ее центром. Четыре потускневших зеркала аккуратно располагались по стенам вперемежку со сливочными колоннами; удобные диваны минувшего столетия, обитые вишневым французским бархатом, опоясывали гостиную; великолепный паркет блистал, будто вчера натертый. Гостиная казалась пустой, лишенная рояля и кресел, зато она открывала теперь свое пространство, годное для фехтования и одиночества. В малую гостиную были теперь снесены все карточные столы, и она напоминала классы, покинутые учениками навсегда. Я не спрашивал князя, что побуждало его перестраивать свой быт так, а не иначе, но, судя по его возбуждению и по смеху, с которым он все это проделывал, можно было предположить, что какой–то очень тонкий, едва уловимый расчет руководит новым хозяином дома. Наконец пришло время экзекуции первого этажа. Он велел заколотить все двери жилых покоев, пощадив лишь службы и людскую, и навсегда, как ему казалось, отгородил себя от монументального кабинета–библиотеки отца, предварительно опустошив его по своему вкусу. Были заколочены двери в спальни отца и давно умершей матери, хотя все там, внутри, было оставлено в неприкосновенности. Освободившись таким странным образом от своего же прошлого, он распорядился втрое сократить количество прислуги, возвратив их в деревни, чему они не были рады; оставил себе повара, кухарку, форейтора, лакея, садовников и круглолицего Афанасия в качестве камердинера, мажордома, или дворецкого, или адъютанта, ибо в лице этого деревенского чудака и ровесника успел за многие годы приобрести человека, как ему казалось, преданного, надежного и оригинального.
И вот, совершив все вышепоименованное, он продолжал жить уже как бы в новом качестве. И, видимо, в связи со всеми этими новшествами, о которых зловещий слух не замедлил разлететься, и заехала к нему как–то его сестра, фрейлина великой княгини Елены Павловны – Елизавета Васильевна, похожая на натянутую струну. Не снимая шубы, в зловещем молчании проследовала она на третий этаж. В комнате не пожелала сесть, стояла в дверях, брезгливо вглядываясь в прихотливое ничтожество княжеского убранства. С виноватой улыбкой Мятлев выслушал ее расточительный гнев, не желая понимать своей вины, которая была ужасна хотя бы тем, что напоминала вызов, ибо все эти преобразования и стиль поведения… Он безуспешно пытался вставить хоть слово, но она повелительным жестом прерывала его и говорила все сама, сама, сама… И он кивал ей, будто бы соглашаясь, но она–то знала, как мало согласия в мягких кивках этого сумасброда… Она не намерена краснеть за него и видеть недоумение и осуждение в глазах людей, окружающих ее, и выслушивать их соболезнования!… Больше ее нога… бесчинство… гнев государя… забвение…
Пока он судорожно растрачивал свою молодость, женщины не были для него объектом пристального внимания. Их образ не вырастал над привычными пристрастиями. Влюбчивость же, как он думал, минула еще в ранней юности. Воспоминание о первой любви было смешным и далеким. В бытность свою в пажеском корпусе он повстречался на детском балу у Шереметевых с Машенькой Стрекаловой. Голова у него слегка закружилась при звуках ее капризного голоска. Он понял, что не сможет забыть ее, и после первого же танца ускользнул с нею в пустую буфетную. Там они присели на лавку, и Сережа Мятлев, наклонившись к ней, увидел в вырезе ее платья два неких розовых бугорка, две едва заметные припухлости, что–то такое нежное и живое… Он поцеловал ее в острое плечико, а сам, целуя, все косился туда, в полумрак, где это вздымалось и опадало тревожно и часто.
– Ах, – сказала она, не отстраняясь, – вам следует поговорить с maman!
– О чем? – спросил он, не понимая. – Я люблю вас навеки…
– Тем более, – сказала она. – Если вы просите моей руки, как же можно, минуя maman? Как она скажет, так и будет. Вы мне тоже приятны, не скрою, но как же без maman?
Они вернулись к танцам, никем не замеченные. Позже Мятлев уехал домой. И уже в карете, засыпая на плече гувернера, подумал, что не знает, о чем говорить с Машенькиной матерью и как говорить, и еще подумал о том, что девочка вовсе не так хороша, хотя это у нее было такое нежное и, наверное, горячее, что хотелось прикоснуться.