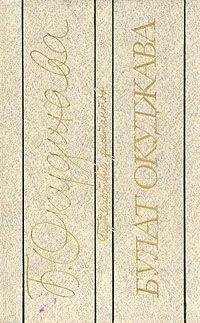Они вернулись к танцам, никем не замеченные. Позже Мятлев уехал домой. И уже в карете, засыпая на плече гувернера, подумал, что не знает, о чем говорить с Машенькиной матерью и как говорить, и еще подумал о том, что девочка вовсе не так хороша, хотя это у нее было такое нежное и, наверное, горячее, что хотелось прикоснуться.
И все–таки это был уже опыт, на который он опирался впоследствии в разговорах с бывалыми кавалергардами.
Потом он соблазнил, едучи как–то в свое костромское имение, молодую розовощекую поповну. Вернее, она соблазнила его. От нее пахло молодостью, рекой и луком, и это запомнилось Мятлеву на всю жизнь. Переполненный любовным опытом, он некоторое время скептически относился к женщинам, покуда кавалергардская фортуна не обязала его придерживаться установленных правил. В этой звонкой среде все было на виду, на ладони. Донжуаны в кирасах исповедовались друг другу с жаром отправляющихся в последнюю битву или на эшафот. История следовала за историей, любовные приключения сменяли друг друга. Кавалергардская казарма гудела. У начинающих кружились головы и захватывало дух. Послушать разговоры, так могло показаться, что все женщины Петербурга, сойдя с ума, поклялись в вечной неверности своим мужьям и с легкостью устремились в объятия скучающих офицеров. Наверное, в этом был свой резон. Умение как ни в чем не бывало дружить с мужем своей любовницы – вот что было высшим и тончайшим признаком совершенства. Захотелось испытать и это, словно попробовать холодную воду кончиками пальцев, прежде чем окунуться в нее с головой. Удобный случай не заставил себя долго ждать, ибо он всегда возле нас и тотчас объявляется, лишь прояви мы к нему расположение.
Жене барона Фредерикса, действительного тайного советника и камергера, Анне Михайловне Фредерикс, урожденной Глебовой, перевалило за тридцать, но она продолжала оставаться все той же пленительной Анетой, с движениями, исполненными чарующей грации. Она редко бывала в свете, что придавало ее имени оттенок таинственности, а молчаливость усиливала это впечатление в глазах окружающих ее людей. Мятлев встречал ее и раньше, но положение замужней дамы и натуральная сдержанность в ней, граничащая с холодностью, не располагала его к чувствам. Однако время шло, и они встретились на большом балу, кажется, на рождество, а может, несколько раньше, и он впервые танцевал с ней. Что–то вдруг словно ожгло его, едва он коснулся ее руки, тонкий надменный аромат исходил от ее розового шелка и черных локонов. Ее большие сливовидные глаза были неотрывно устремлены на него, но выражали больше равнодушия, нежели интереса. Танцевала она легко, но без страсти и азарта молоденьких барышень, несмотря на то, что Мятлев с непонятным волнением пытался передать ей хоть малую искру бального вдохновения.
– Вы редко выезжаете, – проговорил он, чтобы не быть в одиночестве. Она не ответила, лишь снисходительно улыбнулась.
Неожиданно он понял, что она неописуемо хороша, пленительна и что случится непоправимое, ежели он не сможет отныне видеть ее часто. Это было в нем так сильно, как никогда до того. Он старался не глядеть на нее, чтобы не быть убитым наповал, смеялся в душе, пытаясь залить бушующее пламя, но попытки были напрасны. Глубокие ее глаза и розовый шелк платья казались ему грозовым небом. Дышалось трудно, с ужасом. Она, видимо, не испытывала ничего подобного, так как, стоило ему взглянуть на нее, он встречал ее спокойный взгляд и все ту же снисходительную улыбку.
– Вы будете у Бобринских в следующий четверг? – задыхаясь, спросил он. Она пожала плечами, не отводя взгляда.
В душе Мятлева бушевала буря. Он искал ее ко второму танцу, но не мог найти. Наконец ему сказали, что она уехала. Он был в смятении, однако, возвращаясь домой, вдруг ощутил себя здоровым и спокойным, объяснил это собственной каменностью и в раздражении на себя самого за эту каменность и черствость пытался взвинтить себя. Начал было письмо к ней, но слова выходили слишком прохладны. Наступил четверг. Он летел в карете и думал: «Как стыдно, как я безобразно спокоен! Что это со мной?… Нет, я люблю ee! Вот именно, люблю…» Вошел в залу. Ее не было… Вдруг она появилась со своим мужем, уже немолодым рыжим человеком, который тотчас удалился к таким же, как он, играть или делиться впечатлениями дня, кто знает. Как только он ее увидел, нешуточная страсть вспыхнула в нем. «Ага!» – позлорадствовал он над самим собой. Она была милостива. Узнала. Они танцевали. Взгляд ее был уже без прежней снисходительности. Напротив, что–то даже теплое и располагающее промелькнуло в нем и в выражении ее лица, так что Мятлев вдруг освободился от кошмаров, преследовавших его целую неделю.
– Я все время думал о вас, – признался он.
Она не ответила, но поглядела на него с интересом.
– Побудьте подольше, – попросил он. – А то вы исчезаете…
И она исчезла, не дождавшись середины бала, и снова оставила его в пустоте и неопределенности. И тут же, к его досаде, пламя начало угасать. Он еще цеплялся за него, раздувал, припоминая ее плечи, щеки и тепло, идущее от них, вечное, обольстительное и проклятое. Он еще вдалбливал себе в голову мысль о своей невероятной любви, но говорил об этом уже сдержаннее, видя перед собой четкий контур адюльтера.
Вдруг от Фредериксов пришло приглашение посетить их! Так просто и изысканно выглядел надушенный конверт, что мой князь встрепенулся и отправился к ней за два часа до намеченного срока. Он отпустил карету. Спохватился, но было уже поздно. И, пока не наступила минута, дозволяющая пойти, не нарушая приличий, он около полутора часов фланировал невдалеке от особняка Фредериксов. И вот наконец он вступил на спасительный берег, где был совсем иной порядок, иные нравы, иные страсти. Не так шуршал под ногами ковер, не так потрескивали свечи, неведомый сквозняк овевал его, покуда он, замирая, переступал по лестнице деревянными ногами. Почти угасший огонь вновь бушевал в нем. Он снова любил и был счастлив. Все, что он еще мог увидеть вокруг себя, приводило его в умиление, на всем он видел легкое касание ее руки, дыхания, взгляда. Мраморная лестница казалась нескончаемой, и неожиданные листья живой смоковницы сочились сквозь белые перила неизвестно откуда, и почему–то в голове вертелся вздорный мотив и первая строчка: «Я сорвал для тебя этот цветик лесной…» Что там было дальше, Мятлев не помнил, лишь старательно повторял эту строчку. Перед распахнутой дверью в гостиную он зажмурился. Она пошла к нему навстречу.
– Здравствуйте, князь. Мы рады вас видеть, – сказала она, и он впервые услыхал ее голос. Ноги приобрели прежнюю упругость и устойчивость. Он поцеловал ее руку. Вдруг ему показалось, будто нечто мягкое, темное, неопределенное выдвинулось из глубины гостиной и на мгновение заслонило свет. Затем оно осторожно приблизилось и остановилось неподалеку.
– Знакомьтесь, – услыхал он над собой. – Вот и наш славный князь.
Перед Мятлевым стоял сам Фредерикс в простом полуфраке. Мятлев машинально сравнил их обоих.
– Я очень рад, – сказал камергер. – Анна Михайловна не ошиблась, вы действительно милы.
Князь растерялся и не знал, что это: учтивый выпад или признание.
«Нет, это невозможно, – подумал он, вновь мельком оглядывая их обоих и сравнивая, – это ошибка…»
– Ну, что же вы остановились, князь, – сказала она. – Пожалуйте.
– Пожалуйте, – повторил камергер.
Бедный князь! Что чувства делают с человеком! Их избыток так же вреден, как и нехватка. Подумать только, взбираться на такую головокружительную высоту, чтобы убедиться, что она не высота, а лишь предгорье, а главное там, дальше, и достичь до него – немыслимая затея.
– Я вижу в вас черты вашей матушки, – сказал камергер, когда они устроились в креслах.
– Я помню се, она была несравненно хороша.
– Все Мятлевы красивы, – сказала Анета. Князь покраснел.
– Воистину, – отозвался Фредерикс, – уж вы, князь, должны к этому привыкнуть. Анна Михайловна просто очарована вами, и я теперь вижу, как она права. Всё князь да князь, князь да князь…
Мятлев покраснел.
«Я люблю ее!» – подумал он упрямо.
Камергеру было за пятьдесят. Гладко выбритое, цветущее его лицо дышало здоровьем и покоем. Говорил он уверенно, почти не разжимая по–юношески ярких губ. Да, уверенно, но деликатно.
– Теперь я наконец смог познакомиться с вами. О вас много говорят и уже давно. Вы, князь, тайна. Что же до меня, то я люблю прозрачность. Тайна для меня обременительна. Вы улыбаетесь, князь, и слава богу. Вы, я вижу, слишком умны и, может быть, не обижайтесь, несколько ленивы, чтобы предаваться амбиции. Кажется, я угадал… Я имею в виду не праздную лень посредственности, а способность не быть суетным, вот что я имею в виду. Ваш приход, князь, большая честь для меня…
– Вам понравилось в четверг? – обратилась Анета к Мятлеву. – Не правда ли, там было мило?