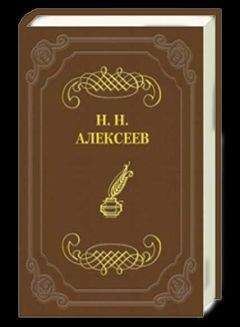— Успокойся, птичка моя! Ну зачем же так убиваться? — прошептал Назарьев, целуя ее побледневшие губы.
— Боже мой! — вдруг поспешно поднялась она с испуганным видом. — Ведь мне сейчас надо на дежурство. Неужели опоздала? Государыня этого не любит.
Наскоро одевшись, Ольга поехала во дворец.
Время было послеобеденное. У государыни находился Бецкий [9], без умолку болтавший о своих филантропических планах, и звук его голоса доносился до Ольги Андреевны, сидевшей в смежной комнате, на случай, если императрица пожелает потребовать к себе дежурную фрейлину. Однако Бецкий вскоре ушел; он уже на пороге, откланиваясь государыне, все еще что-то говорил со своею обычною живостью. Затем у императрицы стало тихо.
Свияжская выбрала одну из французских книжек, сложенных столбиком на столике, стоявшем в углу, и стала перелистывать ее.
В книге описывались нежная страсть двух несчастных влюбленных, их страдания, борьба с препятствиями.
У Ольги Андреевны невольно создалась аналогия между описываемой любовной драмой и своей собственной, переживаемой ею; своя показалась ей куда тяжелее, и у нее зареяли мысли:
«Впереди только возможность побега. Боже! Зачем Ты допустил до этого? Идти против отцовской воли? Быть может, навлечь на себя его проклятие. Да и какой позор для него: дочь сбежала! Ведь этого никак не скроешь. На него будут пальцем показывать. Как ему не проклясть нас? А дальше какая же жизнь, какое же счастье под тяготой проклятья? Краденое счастье! Что же хорошего можно купить грехом?»
И в душу девушки закрадывалась беспросветная безнадежность. Ею овладело глубокое, печальное раздумье, и не замечаемые ею слезы одна за другой западали на страницу раскрытой, но уже не читаемой книги.
Тихо отворилась дверь. Свияжская не слышала и продолжала сидеть с уроненной на грудь головой, как прекрасная, юная статуя скорби.
— Деточка! О чем эти слезы? — послышался подле нее мягкий голос, и чья-то рука ласково легла ей на плечо.
Ольга Андреевна вздрогнула и оторопела: перед нею стояла императрица. Однако Свияжская опомнилась и быстро поднялась.
— Ваше величество! — смущенно залепетала она, стараясь смахнуть досадные слезы. — Простите! Я не слышала… Задумалась…
— Ты о чем-то грустишь, детка? Сядь-ка, сядь! О чем же? От матери грешно скрывать, а разве я для вас не та же мать?
Голос государыни проникал в душу, ясные глаза светились теплой, материнской лаской.
Какие-то новые струны задрожали в сердце Ольги; ей захотелось излить все, что наболело, как перед матерью, довериться, услышать слово участия.
— Я вам все скажу, ваше величество, только не браните меня за то, что я грешна… Я ведь и несчастна! — воскликнула Свияжская и затем в каком-то экстазе быстро, несвязно, но подробно поведала все государыне: о своей любви к Назарьеву, о сватовстве Дудышкина, наконец о задуманном побеге. — Простите меня, ваше величество! Я гадкая, грешная, нехорошая, — закончила она речь, целуя и обливая слезами руки императрицы.
Государыня была растрогана.
— Ты прежде всего успокойся, деточка, — сказала она. — И зачем так горько плакать и портить свои прелестные глазки? Все еще может устроиться… Особенно если я возьмусь за это.
— Вы?
— Да. Надо же сделать так, чтобы на этих глазках высохли слезы. Ты сегодня расстроена, можно сказать, не в себе, тебе не до дежурства. Поезжай домой и постарайся успокоиться. О твоем милом я спрошу кое у кого, каков он. Да, кстати, скажи своему отцу, чтобы он послезавтра приехал ко мне на прием: частным образом, повестки не будет. Ну успокойся же! — Императрица встала и пристально посмотрела на Ольгу. — Кажешься ты ангельчиком, а на самом деле маленький… бесенок, — промолвила она и, ласково кивнув Свияжской, удалилась.
Домой Ольга Андреевна приехала как в чаду, но первым долгом передала отцу приказание императрицы.
Старик всполошился. Он был лично известен государыне, однако далеко не пользовался ее вниманием, очень редко удостаивался беседы с ней и стороной знал, что Екатерина Алексеевна не совсем-то его долюбливает, так как слышала от злых людей о некоторых его делишках.
В назначенный срок Андрей Григорьевич отправился во дворец с далеко не спокойным сердцем и всю дорогу раздумывал, не дошло ли чего-нибудь до императрицы о его каких-нибудь недавних делах. Но, казалось бы, этого не должно быть: все устраивалось очень ловко. Вернулся он и взволнованный, и смущенный, тотчас позвал жену в кабинет и долго толковал с нею.
Потом туда же позвали и Ольгу. Взглянув на мачеху, молодая девушка подивилась той перемене, которая произошла в ней: та была бледна как полотно, а ее глаза блестели недобрым огнем.
А через несколько дней после этого в квартире Кисельникова произошла следующая сцена.
Александр Васильевич, только что оправившийся от болезни, бледный и исхудалый, с унылым видом бродил по комнате, как вдруг к нему вбежал Назарьев, взволнованный, дрожащий от радости.
— Ура! — закричал он и, схватив в объятия Александра Васильевича, закружился с ним по комнате.
— Женя! Что с тобой? — с недоумением спросил его Кисельников.
— Что со мной? Ох, дай дух перевести! Радость у меня, такая радость, что… Ну, одним словом, чудо из чудес. Фу-у! — проговорил армеец, опустившись на стул и тяжело дыша. — Понимаешь, — добавил он, — понимаешь: Олечку мою за меня отдают! Не чудо ли? До сих пор опомниться не могу.
Кисельников посмотрел на приятеля с недоверчивым изумлением.
— Ты думаешь, уж не рехнулся ли я? — продолжал Назарьев. — Не бойсь, нет! Ах, батенька мой, как это все дивно устроилось! Я уговорил Олю на днях бежать от отца и обвенчаться самокруткой. А вчера прихожу, она встречает меня такая радостная, какою я давно уже не видел ее, и говорит: «И без побега все устроится, только Богу молись», — «Как же это так может быть?» — спрашиваю. «А уж так. Пока ничего не скажу, а на днях узнаешь». Как я ни допытывался, так она ничего и не сказала. Только смеется и кричит: «Не спрашивай!». Прихожу к Свияжским сегодня, а лакей мне докладывает: «Их превосходительство Андрей Григорьевич просили ваше благородие к себе в кабинет». У меня сердце захолонуло: «Ну, — думаю, — от дома мне отказывать хочет!». Пошел, а сердце тут-тук! Ну и представь себе: Андрей Григорьевич вдруг мне чуть не на шею кидается, не знает, куда посадить, жмет руки… Одним словом, ангел, а не человек. Потом хлопнул меня по колену, да и говорит: «Что же, родименький, если такова воля нашей великой государыни, то мы можем с вами и породниться. Честным пирком, да и за свадебку. Знаю, — говорит и глазом этак подмигивает, — давно этого дожидаешься, зятек, хе-хе!». Я сижу и понять не могу сразу: что за притча? А он смеется: «Не ожидал? Скажу напрямик: государыня хочет, чтобы я за вас Оленьку выдал. Воля монархини — закон. Бери мою дочку! Давай обнимемся». Ну, расцеловались. Потом позвали Олю. Она и плачет, и смеется. Радости-то, радости, Господи! Вот дождался! Оля, оказывается, царице всю правду открыла про нас. Государыня и принялась за Свияжского. В приемной при всех сказала: «Я у тебя свахой, Андрей Григорьевич, хочу быть: есть у меня на примете жених для твоей дочки, армейский капитан Назарьев. Он бедный, но дворянин, и я о нем позабочусь. Дочка твоя и он любят друг друга, а это самое важное для счастья: слезы-то и через золото льются, а у них будет совет да любовь. Так принимаешь мое сватовство?». Свияжский, конечно, только знай кланяется да бормочет: «Слушаюсь, ваше величество!». Так вот, брат, дела какие. Через месяц свадьба. Радость-то какая великая! Ты у меня, конечно, в шаферах?
— Поздравляю, друг, от души поздравляю. Дай Бог тебе с молодой женой всего лучшего, — в волнении проговорил Кисельников, обнимая друга. — А вот уж шафером у тебя на свадьбе мне едва ли придется быть, — грустно добавил он.
Пришла очередь удивляться Евгению Дмитриевичу.
— Это почему?
— У тебя, друг, великая радость, а у меня великое горе. Вот прочти, прислали из коллегии.
Это было извещение военной коллегии, что Киселышков «из-за его зазорной и буйственной поведенции переводится в Энский пехотный полк тем же чином прапора, а как этот полк ныне на походе, то ему, Кисельникову, не мешало бы догнать его».
— Ай-ай, — покачал головой Назарьев. — Это все из-за дуэли. Бедный!
— Собственно, я-то не очень горевал бы: мне в Питере теперь житье трудное: все чуть не пальцем на меня показывают. А вот жаль огорчать отца. И еще есть у меня горе: знаешь, одна беда не приходит. Ты слышал, крымские татары ворвались в Россию?
— Слышал мельком. У нас не ждали, что турки так скоро начнут военные действия.
— Сорок тысяч ворвалось. Сожгли, пограбили, и как раз нашу елизаветградскую провинцию. Боюсь, не убили ли отца и… других там. Ведь татары изверги. А то в плен, может, увели. Так сердце тоскует.