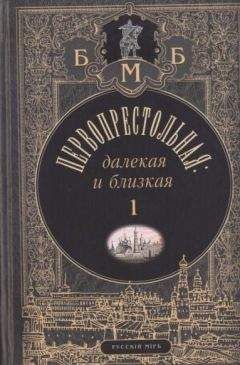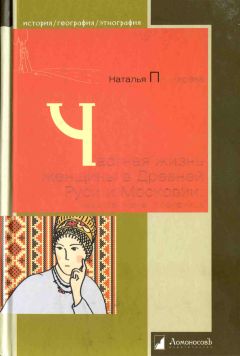Татары переглядывались: никогда ещё ничего подобного не слыхали уши татарские на Москве! Иван, весь белый, палил их своими страшными глазами.
— Великий хан прогневался на тебя, государь! — дрожащим голосом проговорил старший из послов, вручая великому государю басму, символ ханского повеления, и грамоту. — Ты в Орду и глаз не кажешь, дани не высылаешь, а когда мы от имени великого хана явились к тебе, ты вот нам ещё словно и выговор ещё делаешь… Ты данник и слуга великого хана, и ежели ты забыл старые порядки, которые установлены Ордой на Москве, так великий хан пришлёт свою рать, чтобы тебе их напомнить… Твой…
Он оборвал себя и отшатнулся: весь белый, с бешеными глазами, Иван быстро встал во весь рост, исковеркал в ярости басму, швырнул её на пол, наступил на неё ногой и, изорвав в клочья ханскую грамоту, бросил и её на ступени трона и плюнул на обрывки.
— Видели, собаки? — прогремел он над помертвевшими татарами. — Так поезжайте домой и передайте хану, что вы здесь видели, и скажите, что если он посмеет явиться в Русскую землю, то и ему, свинье дикой, будет то же…
Всё окаменело. По рядам золотых вельмож пробежал ветер ужаса и восторга. А над поражённой толпой с поднятой вверх рукой, с белым, искажённым страстью, красивым, как никогда, ликом, точно изваяние стоял великий государь московский и всея Руси…
— Вон! — прогремел он. — И чтобы Ахмат твой не смел больше посылать ко мне никого.
Татары не помнили, как они и к коням своим выкатились. Широкими шагами, никого и ничего не видя, великий государь ушёл в свои покои. Бояре, точно от сна пробудившись, обменивались молчаливыми взглядами, в которых стояли и ужас, и восторг. И понемногу зашумели их золотые ряды.
— Ну и дела! Господи, помилуй!
— Да ты подумай: ведь осторожнее великого государя в делах государских на Руси никого ещё не было! И вдруг…
— Ну, слава Тебе, Боже наш: спасена матушка Русь! — всхлипнул голос.
То плакал Берсень. Теперь ему было совершенно всё равно, как обернётся дело со старым боярством, теперь он думал только о Руси. Уютный дьяк Бородатый боялся только одного: как бы не забыть чего из того, что он только что тут видел и слышал. Вместе с дружком своим дьяком Васильем Мамыровым они вели летопись, и не сохранить великого дня сего для потомства во всех его подробностях было бы грехом великим.
— Ох, как-то ещё оно всё обернётся! — вздохнул кто-то. — Как бы не выпала нам неволя ещё грузчая той, которую пока несли.
Но сомневающимся не давали говорить:
— Брось! Помни деда его! — кричали со всех сторон с горящими глазами. — Никто за ним не пошёл, а что он на поле-то Куликовом наделал? Только потому и сильны они, что мы боимся их. Хвала великому государю — за такого и голову сложить хоть сейчас можно!
— Вот это так! — кивнул тяжёлой головой своей князь Семён, в глазах которого стояли слёзы. — Вот когда сказать можно: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему».
Точно чудом каким из палат великого князя весть о приёме послов татарских мигом разнеслась сперва по Кремлю, по стенам, по торгу на площади, а потом и по всем посадам московским. Какой-то попишка похабный с дрянной бородёнкой и редкими зубами, стоявший около Фроловских ворот, насмешливо поглядел вслед скачущим татарам.
— Тщима руками отхождаху[70], — ернически подминул он и плюнул вслед поганым.
И как ни велик был страх перед вековыми угнетателями, над Москвой точно вдруг великий праздник засиял. К вечеру большая толпа москвитян ринулась было громить Ордынское подворье, но отряд конных загородил ей путь. Но всё же некоторых татар изловили и прикончили.
— Пёс с ними! — сказал Иван, когда ему донесли об этом. — Пусть только одного оставят, чтобы было кому весть в Орду подать.
Иван втайне сам на себя дивился: хитрый, осторожный, он так дела вести не любил. Но иначе теперь он поступить не мог: в нём вдруг во весь рост встала вся Русь. Он неимоверно вырос, супротивники его опустили головы, и долго в душах бояр, и ему преданных, и ковавших против него крамолы, стояло страшное и восхитительное видение: золотой трон, на ступенях его поруганная басма и белые клочья порванной грамоты, вкруг смятенные послы ханские и золотая толпа державцев государства Московского, а над всем этим в тяжёлой золотой одежде, в шапке Мономаха, в бармах страшная фигура великого государя с белым, вдохновенным лицом и палящими глазами…
Долго не спала Москва в эту ночь. Точно громы весенние над ней перекатывались: и страшно, и весело. Это был день исключительной красоты, когда даже в грубых сердцах зажигаются праздничные огни, один из тех дней, которые народами помнятся века. Горячее и моложе забились на Руси сердца, и стало слышнее, дороже то, что раньше иногда забывалось, иногда пренебрегалось: Русь, Родина, Мать… Даже Софья, нелюбимая, хитрая, надменная, неприятно огромная, и та теперь стала представляться иной: «Ай да грекиня! Ну и голова!..»
На Ивана же и глаз поднять не смели: от него точно сияние величества исходило. И никогда не работали так на стенах кремлёвских работные люди, Русь.
Вскоре прилетел на Русь слух: взбешенный хан Ахмат поднял на Москву огромные силы. У всех точно крылья выросли: авось на этот раз развяжет Господь народ Свой окончательно. И тотчас же прилетела и другая весть: дружок великого государя, хан крымский Менгли-Гирей, в бешеном топоте своих конников, в лязге кривых сабель, в огне и дыму пожаров буйной лавиной вторгся в пределы Литвы, и союзник Золотой Орды, Казимир, был вторжением этим скован по рукам и по ногам. Мало того: ногай, враги Золотой Орды, кочевавшие в предгорьях Кавказа, бросились на улусы Ахмата с юга, а с севера, Волгой, туда же поспешал другой враг Ахмата, брат Менгли-Гирея и союзник Москвы, казанский хан Нордулат, к полкам которого присоединился и воевода звенигородский Ноздреватый со своей ратью…
Москва горячо шумела приготовлениями бранными. Мелкие князья со всех сторон спешили к ней со своими полками. Вся рознь затихла, и на кровавый пир вся северная Русь готовилась, как на Светлый праздник. И никогда не было так остро обидно, что юго-западная Русь в чужих руках. Но у всех крепла надежда: будет вместе и она!
Настал и торжественный день выступления в поход на Оку, или, как тогда говорили, «на берег». Ко всеобщему изумлению, Иван Молодой не только не стонал и не охал, но, наоборот, показал большую расторопность.
— Я говорил, что он личину носит, — сказал князь Семён. — Он хитростью-то, может, и саму Софью за пояс заткнет. У него какая-то своя думка есть. Азият!
Во главе рати, которая пошла на Серпухов, стал Иван Молодой. Другие полки, которые должны были занять все переправы через Оку вплоть до Угры, повели именитые бояре. А 23 июля, оставив «ведать Москву» князей Можайского и Ивана Юрьевича Патрикеева, во главе блестящей свиты направился к Коломне и сам великий государь.
С ним ехал и князь Патрикеев-младший. И, когда проезжали все мимо хором Данилы Холмского, к Фроловским воротам, князь Василий поднял глаза на высокий терем и вдруг вздрогнул: из окна светлицы, сжав не то в испуге, не то в восторге белые руки на груди, смотрела на него Стеша… Его ослепило и потрясло восторженное выражение милого лица, и голубые глаза в одно мгновение сказали ему такую правду, от которой испуганно и блаженно закружилась голова.
Затаив дыхание, Москва, а с нею и вся Русь каждый день ждали с берегов Оки известий о победе: других известий быть не могло. Кроме того, о поражении нельзя было думать и потому, что слишком страшна была эта мысль. Но если не думали о такой возможности москвитяне, то думал Иван. Объезжая со своими воеводами русские полки берега Оки вдоль, он смотрел на стан татарский, занявший другой берег, и взвешивал его силы. Ставка в игре была огромна. В случае беды Русь могла потерять всё, чего она достигла за последние годы, и превратиться в простой да еще и разорённый улус хана Ахмата. Умный Иван видел слишком много, слишком далеко, слишком сложно и потому колебался: наверное, знают, что делать, только очень ограниченные люди. Хотя в полках своих он явно чувствовал нетерпение ударить на врага, ясно слышал ропот воевод и даже отцов духовных, призывавших его скорее «постоять за дом Пресвятыя Богородицы», он медлил, откладывал, выжидал: то, что татары не решаются нападать на него, было для него весьма знаменательно… Но страшила необъятность татарского стана. И неотступно гудели ему в уши трутни придворные, «богатые сребролюбцы, брюхатые предатели», как называет их летопись, которые твердили ему одно: «Не становись на бой, великий государь, лучше беги…» Они, конечно, не отстали бы…
— Тц! — цокнул языком дружок его Даньяр с неудовольствием. — Шибка многа думашь. Надо сабля тащил и айда. Вели мне с моим конником плавь речку ходить. Я ударил первый, а вы спешил за мной. А?