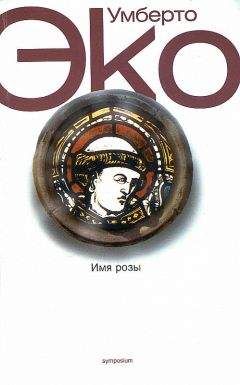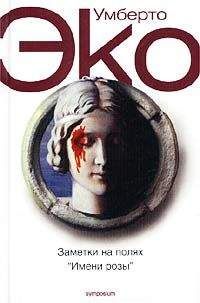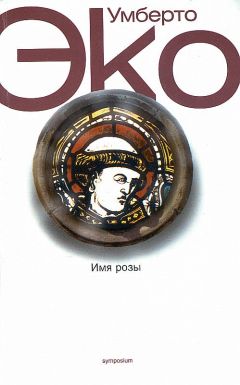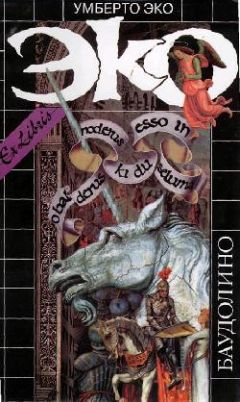«А что, в аббатстве случаются непотребства?» – рассеянно осведомился Вильгельм, подливая себе молока.
«Монах тоже мужчина, – изрек Имарос. Помолчал и добавил: – Хотя здесь мужчин меньше, чем кажется. Но это должно остаться между нами… Само собой, я ничего не говорил…»
«Очень любопытно, – сказал Вильгельм. – А это только ваше мнение, или другие тоже так думают?»
«Многие, многие думают, как я. Многим жалко бедненького Адельма. Но если бы в пропасть свалился кто-нибудь еще… из тех, кто шныряет по библиотеке больше, чем следует… многие бы не возражали…»
«Что вы хотите сказать?»
«Я и так уж слишком много сказал. Мы тут все слишком много говорим. Вы, наверное, уже заметили. Правило молчания совершенно не соблюдается. Это с одной стороны. А с другой – соблюдается слишком многими. Но здесь надо не говорить и не молчать. Здесь надо действовать. В золотую эпоху нашего ордена, если аббат оказывался не из аббатского теста, – один кубок подслащенного вина, и вакансия свободна. Однако я поделился с вами своими соображениями, брат Вильгельм, конечно же, не из желания посплетничать на счет Аббата… или других собратьев… Боже меня сохрани! Я, к счастью, не подвержен постыдной наклонности к сплетничеству. Просто не хотелось бы узнать, что Аббат поручил вам расследовать мое дело… или чье-нибудь еще… к примеру, Пацифика Тиволийского или Петра Сант’Альбанского. Мы к библиотечным тайнам никакого касательства не имеем. Хотя не прочь бы иметь. Кое в чем разобраться. Мы рады, что вам предстоит потревожить это змеиное гнездо – именно вам, сжегшему столько еретиков».
«Я никогда никого не сжигал», – сухо ответил Вильгельм.
«Да это так, к слову, – с улыбкой увернулся Имарос. – Удачной вам охоты, брат Вильгельм, в особенности ночной».
«Почему не дневной?»
«Потому что днем тут врачуют плоть полезными травами, а по ночам истязают дух зловредными. Не верьте, будто Адельм сверзился в пропасть от чьей-то руки или будто чьи-то руки утопили в крови Венанция. Нет. Кое-кому нежелательно, чтоб монахи сами решали, куда им идти, что делать и что читать. И этот кто-то зовет на помощь адовые силы, использует и некромантов, сошедшихся с нечистым. Все, чтобы помрачать разум тех, кто слишком любопытен…»
«Вы говорите об отце травщике?»
«Северин Сант’Эммеранский искусен в своем деле… Но все же он немец… Немец также и Малахия…» – И, доказав в очередной раз свою несклонность к наушничеству, Имарос проследовал заниматься.
«Что это он имеет в виду?» – спросил я.
«Все. И ничего определенного. Большинство монастырей – это места, где одни монахи соревнуются за власть над остальными. То же самое и в Мельке, хотя, наверное, ты, как послушник, не так уж много успел разобрать. Но у тебя на родине захватить управление монастырем означает захватить позиции, откуда ведется прямой разговор с императором. А в этой стране положение другое, император далеко, даже когда он доезжает до самого Рима. Нет дворов, теперь нет даже папского. Есть города, и ты это обязательно заметишь».
«Я уже заметил и поразился. Город в Италии – это что-то совсем другое, чем у меня на родине. Не только место обитания. Это место принятия решений. Тут вечно все на площади. Городские магистраты значат больше, чем император или папа. Они… Как некие царства…»
«А цари тут купцы. А сила их в деньгах. И деньги здесь, в Италии, ходят не так, как у тебя в стране. Или у меня. То есть, конечно, деньги везде деньги, но у нас в значительной степени жизнь определяется и управляется обменом товаров. Мы вымениваем или покупаем петуха, куль зерна, мотыгу, повозку: деньги нам служат для приобретения товаров. В итальянских же городах, как ты, может быть, заметил, все обстоит наоборот: товары служат для приобретения денег. Священнослужители, епископы, даже религиозные ордена вынуждены пересчитывать жизнь на деньги. И именно по этой причине восстание против власти здесь оборачивается восстанием против денег; те, кто выключен из денежного обихода, борются против правительства; всякий призыв к бедности встречает сильнейший отпор, и целые города, от епископа до магистрата, воспринимают как личного врага всякого, кто слишком ратует за бедность. Инквизиторам чуется зловоние дьявола всякий раз, когда кто-нибудь заговорит о вони дьяволова дерьма. Теперь тебе понятно, к чему клонит Имарос. Бенедиктинское аббатство в золотые времена ордена являло собой возвышенное место, оттуда пастыри надзирали за стадами верующих. Имарос хочет вернуть старое. Однако теперь жизнь стад переменилась и аббатство может воротить старое (старую славу, старое свое имущество) только если сумеет усвоить новые привычки стада и сумеет само перемениться. А поелику ныне стадами правят не кровавые мечи и не таинственные заклинания, а всесильные деньги, Имаросу желательно, чтобы все мастерские и службы монастыря, включая и библиотеку, работали бы промышленно и приносили бы доход».
«А как это связано с убийствами… или с убийством?»
«Еще не знаю. Теперь мне надо наверх. Идем со мной».
Монахи уже работали. Во всем скриптории царила тишина – но не та тишина, которая сопутствует трудовой умиротворенности души. Недавно вошедший Беренгар впился в нас глазами. Прочие монахи тоже подняли головы. Всем было известно, что мы здесь ищем разгадку тайны Венанция, и взгляды всех присутствующих непроизвольно сходились в одной точке, подсказывая нужное направление; мы взглянули туда же и увидели перед собой пустой стол под одним из высоких окон, выходивших во внутренность восьмиугольного колодца.
Несмотря на холодный ноябрьский день, температура воздуха в скриптории была не слишком низка. Надо думать, не случайно это помещение устроили прямо над поварнями, откуда подымался довольно теплый воздух и откуда вдобавок шли, пронизывая всю постройку, два дымохода от двух кухонных печей, пропущенные в середине каменных столпов, на которых держались винтовые лестницы – одна в западной, другая – в южной башне. Что же касается северной башни, чья внутренность открывалась на противоположную оконечность огромной залы, – в ней лестницы не было, но был очень большой камин, жарко натопленный и распространявший около себя веселое тепло. Утеплен был и пол – щедро устлан соломой: она согревала ноги и к тому же глушила шумы передвижения. Из сказанного понятно, что хуже всего отапливался восточный угол помещения, и действительно я заметил, что монахи, которых работало меньше, нежели имелось в скриптории письменных столов, старались не садиться близко к восточной башне. Когда же немного погодя я увидел и понял, что лестница в восточной башне единственная из всех не обрывается, доходя снизу до скриптория, а ведет и выше – на библиотечный этаж, я задумался: а не был ли столь хитроумен тайный расчет созидателей, чтобы при подобном неравномерном нагреве залы монахи оказывались всегда принуждены держаться подальше от этой лестницы, и не могли бы любопытствовать, и не затрудняли бы библиотекарю надзор за доступом в книгохранение? Но, вероятно, слишком уж далеко завели меня подозрительность и желание походить, как обезьяна, на наставника, ибо сразу же и самопроизвольно я возразил себе, что подобный расчет совершенно теряет смысл в условиях летнего времени, если только не думать о том, – снова нашелся я, говоря сам с собою, – что летом именно на эту сторону попадает больше всего прямого солнца, а следовательно, и летом тоже все должны стараться сесть отсюда подальше.
Стол покойного Венанция помещался напротив камина и был, наверное, одним из самых здесь удобных. В ту пору еще я лишь малейшую частицу своей жизни отдал скрипторию, однако гораздо большую часть жизни я посвятил ему впоследствии и по себе знаю, какие телесные страдания приносит писцу, рубрикатору или изыскателю долгий зимний день, проведенный за письменным столом, когда коченеют скрюченные пальцы на стилосе (притом, что и в самой нормальной температуре через шесть часов работы у большинства людей пальцы сводит мучительнейшей «монашьей судорогой»), а указательный палец ноет так, как будто по нему били молотками. В чем и коренится причина того, что на полях различных рукописей мы здесь и там встречаем фразы, оброненные писцом между делом, как знаки претерпеваемых им, а иногда и нестерпимых страданий, к примеру, такие: «Слава тебе Господи, начинает темнеть», или: «Эх, в эту бы пору толику доброго вина!», или в таком духе: «Сегодня холодно, ничего не видно, пергамент волосатый, и выходит скверно». В старой пословице сказано: пером правят три пальца, а работает все тело. И работает, и устает, и болит.
Но я рассказывал о столе Венанция. Он был небольшой, как и прочие столы, расставленные под окнами восьмиугольного колодца и предназначенные для исследовательской работы, в то время как более просторные столы, расположенные вдоль внешних окон, отводились рисовальщикам и копиистам. Хотя надо заметить, что и Венанций держал на столе подставку – вероятно, ему были нужны для работы какие-то одолженные монастырем рукописи, которые в то же время переписывались. Под столом была еще одна, низкая полка, где валялись какие-то непереплетенные листы, все исписанные по-латыни. Я догадался, что это последние переводы Венанция. Почерк был неразборчив, в книгу листы не сложились бы. По всей очевидности, они предназначались для передачи копиисту и иллюстратору. Прочитать на них что-либо было трудно. Там же лежало несколько греческих книг. Еще одна, открытая, греческая книга была на подставке – сочинение, над переводом которого Венанций трудился в последние дни. В описываемую пору я еще не знал греческого языка, но учитель сказал, что то была книга некоего Лукиана, повествующая о мужчине, превращенном в осла. Я вспомнил похожую повесть Апулея, которая для нас, послушников, всегда была под строжайшим запретом.