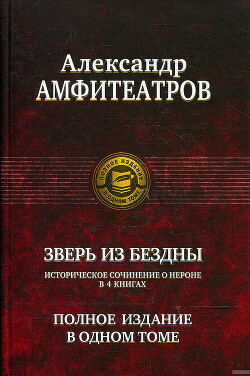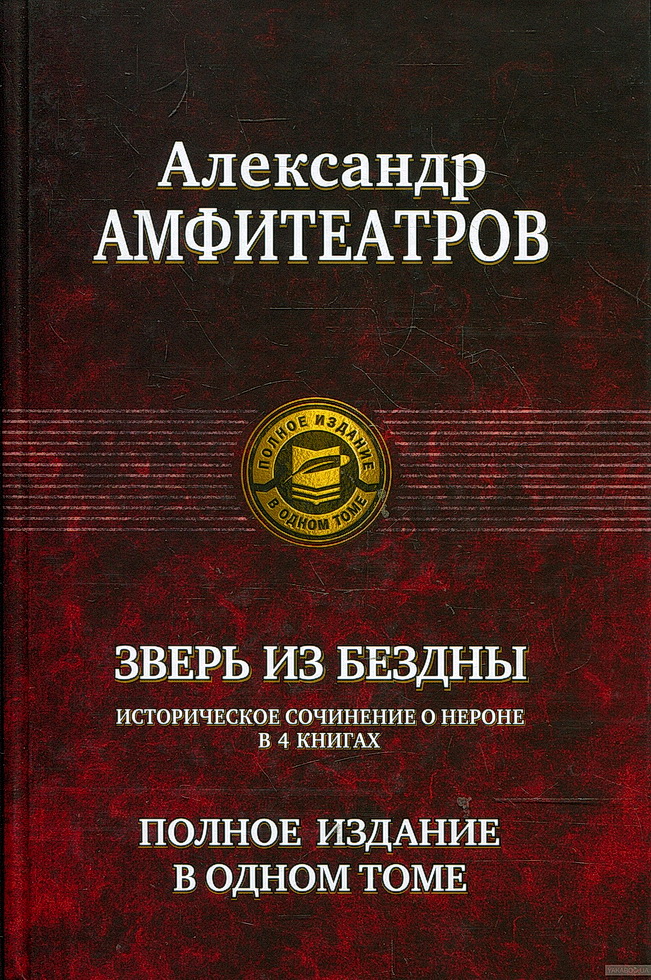Конечно, немыслимо искать столь возвышенных мотивов в рабских романах язычества, вызвавших суровые угрозы Юлиева закона и Клавдиев сенатус-консульт. Здесь — чувственная сторона была, бесспорно, на первом плане. Лакомб пытается доказать, что романы эти возникали из инстинктивного симпатического тяготения угнетенного пола к угнетенному сословию. Но, не говоря уже о психологической натяжке его объяснения, нельзя не возразить, что «рабскими романами» римская женщина стала забавляться отнюдь не в века ее угнетения, но, наоборот, — когда ее эмансипации, в смысле свободы чувства, могла бы позавидовать сама Авдотья Кукшина. Дело было проще: натуры были южные, сильные, пламенные; мужья — благодаря каждодневному пьянству за бесконечными обедами и широко разрешенному мужчинам разврату — почти сплошь алкоголики, неврастеники, рамоли. Диво ли, что женщина, при таких условиях, падала, — уже от одной скуки, не говоря о физиологических запросах, — в объятия первого встречного, хотя бы то был раб? Он молод, красив, умен, трезв, ловок, образован, почтителен, молчалив, — секрет грехопадения будет сохранен свято, ибо рабу нет никакой охоты попасть на крест, хотя бы и из-за прекрасных глаз госпожи своей... Чего же еще надо женщине, если она стремится понимать в любви только чувственную ее сторону, или, по крайней мере, ее прежде всего ищет? Раньше, чем бросить камнем нашего высоко-культурного осуждения в этих старинных грешниц, вспомним иных отечественных дам, путешествующих разгонять тоску душевную и озлобление телесное в Ялту, Кисловодск, Биарриц, Ниццу, Неаполь. Крымские и кавказские проводники, baigneurs морских купаний, испанские торреадоры и прочие герои «рабских романов» нашего времени, весьма мало ушли — да и то Бог весть, вперед или назад? — от героев Петрония, Апулея и Марциала.
В настоящее время психиатрическая наука установила, между другими типами извращения инстинкта любви, два весьма резкие и частые — мазохизм, или жажду страдания и унижения от предмета страсти, и садизм, или жажду заставлять предмет страсти страдать и унижаться. Читая Тацита, Светония, Петрония, Ювенала, Овидия, вы как будто присутствуете при жесточайшей нравственной эпидемии этих двух аномалий, причем писатели подчеркивают, что они свирепствуют лишь в высшем обществе, в сливках культуры. «Поди прочь! — гонит служанка Хриза в романе Петрония волокиту, переодетого рабом, — я никогда не полюблю раба: да хранят меня боги, чтобы я стала ласкать этакое сокровище, которого вся карьера — попасть на крест! Это дело знатных дам — они охотницы целовать рубцы от порки на ваших плечах». Чудовищные оргии Валерии Мессалины, дикости дам Неронова двора полны именно того мучительства и сладострастия, которые, под скромным флером, необходимым по условиям этики XIX века, пытались анализировать поэты «властных» женщин и порабощенных мужчин и, между ними, ярче и последовательнее всех Захер-Мазох, чьим именем окрещена и сама аномалия любовного страдальчества. При дворе Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона чувствовалось то зловещее неврастеническое напряжение, что вьет в воздухе лишь перезрелых культур, достигших вершины исторически определенного им развития и затем обреченных медленно пасть и умереть. Из эпохи этой пишется в наше время, по тайному инстинктивному чувству сродства с ней, множество романов, драм, рассказов. Но кто знаком с классиками, из коих с грехом пополам выжимаются темы и типы этих произведений, тот никогда не променяет на всю совокупность их даже одной страницы Тацита. Зависит это не от невежества и не от малой талантливости авторов, — много ли беллетристов образованнее и талантливее, например, Сенкевича, написавшего, однако, такую исторически-слепую и театрально-условную панораму, как «Quo Vadis»? Еще ярче пример Анатоля Франса с его «Таис», в которой бытовая правда, смутно чувствуемая и понимаемая критическим инстинктом изящного автора, никак не может восторжествовать над балетом действия, развиваемого по условным традициям «хорошего исторического письма», то есть, шаблона, втолкованного музейными внушениями и условными восторгами Реннесанса. Происходит оно скорее оттого, что все беллетристы-историки, опускаясь к римским темам с современного культурного высока, вооружались средствами, слишком узкими к преследованию цели слишком широкой. Написать общественный роман из римской жизни — дело, недостижимое помощью одной лишь мертвой эрудиции по книгам, развалинам, обломкам, статуям и черепкам, как бы она ни была блестяща. Строй римской жизни при императорах, по сложности своей, не уступал современному, целиком охватить который вряд ли по силам было бы и самому Льву Толстому. Притом всем слепит глаза яркий магнит христианства, тогда как — до второй половины II века — оно не играло заметной роли в жизни Рима и характерным путеводителем в настроениях ее считаться отнюдь не может.
Отразить, хотя по частям, но с точностью жизнь императорского Рима мог бы лишь роман психологический, роман-монография, невольно ставший роковым бытописателем и нашей, быстро идущей к вершинам своим, культуры. Недаром мысль отца этого романа, Густава Флобера, с таким систематическим наслаждением улетала в потемки древнего мира. Достоевский и Мопасан — вот две тени, которые невольно стучатся в память, когда мечтаешь о художественном анализе призраков Тацита и Светония. Только первому по силам было бы разобраться в потемках души Тиберия, в шутовском безумии Калигулы, в слабоумном резонерстве Клавдия, в хаотическом дилетантстве Нерона — этих гигантов-Карамазовых I века. Что касается Мопасана, — ни один из бытописателей нашего века не близок более к литературе цезаризма: в нем — весь аристократический юмор, вся наблюдательность, вся правда, весь цинизм гениального Петрония и весь пессимизм, вся меланхолия Лукана.
III
Этим я закончу анализ античного рабства, как социальной отравы общества, на нем основанного. Теперь, согласно предположенной программе, нам предстоит рассмотреть, поскольку институт рабства соприкасался с воспитанием детей, и как слагалось последнее, имея под собой такой сомнительный и зыбкий фундамент.
Рабство начинало свое вкрадчивое влияние на свободного римлянина еще в колыбельные дни его. Лишь немногие женщины-матери, в достаточном классе, кормили детей сами. Этот прекрасный обычай, с ростом римской культуры, остался позади, в седой древности. Еще жена М. Порция Катона кормила сына собственной грудью. Но развитие светскости скоро разлучило римлянку с ее детской — и надолго. Писатель второго века по Р. X. Авл Геллий сохранил нам очень умную, пылкую и убедительную речь, сказанную его современником, философом Фаворином, в защиту естественного материнского кормления. Но — «когда истина вопиет устами философов на улицах, это — лучшее доказательство, что век не слушает ее в домах». Обыкновенно, ребенка поручали мамке, — даже в небогатых домах: кормилица (nutrix) была, например, у Виргинии и сопровождала девочку в школу, когда девочку вздумал похитить Анний Клавдий. Мамку выбирали — в древности, непременно свободнорожденную, по месячному найму; впоследствии — из числа рабынь и преимущественно из гречанок. Хотя Фаворин описывает римских кормилиц довольно темными красками, тем не менее, взаимопривязанность через молочное родство, которая обычно развивается между кормилицей и ее питомцем, — иногда на всю жизнь, — имела и в Риме частые и трогательные примеры. Когда император Нерон погиб, объявленный врагом отечества, покинутый всеми, погребальные почести ему оказали: вольноотпущенница Актэ, его первая любовница, и две старухи-кормилицы, Александрия и Эклога; им на руки будущий цезарь сдан был матерью с первого дня рождения. Обе, по именам, — гречанки. Предпочтение к кормилицам-гречанкам обусловливалось теми же соображениями, по которым, в наши дни, состоятельные русские люди окружают своих детей боннами-швейцарками, англичанками, немками: чтобы с малолетства привить ребенку, кроме его родного языка, чужой, со временем столь же необходимый ему, как отечественный. Греческий язык был для римлянина даже важнее, чем для нас французский. По педагогическому значению в системе римского образования, он объединял два языка нашей учебной программы: как предмет практически прикладного знания — язык французский; как основной предмет теоретического развития мысли — язык латинский. Говорить и писать по-гречески в Риме конца республики и, тем более, во все века империи — это не только хороший тон: для порядочного человека это необходимость. Знаменитый автор двенадцати книг Institutionis Oratoriae Квинтилиан настаивал даже, чтобы дети начинали учиться греческому языку раньше латинского, потому что последний-де и сам привьется им, путем домашней практики. Рабство, в данном случае, играло роль могучего подспорья. Греческих рабов в Риме было множество; при отсутствии специальных знаний, они таксировались на рынке очень недорого; даже не особенно зажиточному человеку было по состоянию приставить к сыну своему, когда он расставался с гречанкой кормилицей, двух-трех греков-рабов: дядьку, служителя, сверстника. Совершенно как в «Онегине»: «Сперва madame за ним ходила, потому monsieur ее сменил». В результате, иные римские юноши говорили по-гречески лучше и охотнее, чем на родном языке: порок обличенный и преданный проклятию многими ярыми патриотами. Рим тоже имел своих Чацких, которые громили свое общество и любезных ему graeculos с неменьшей энергией, чем герой «Горя от ума» отчитывал грибоедовскую Москву за французика из Бордо. Другие усваивали греческое произношение для родной латинской речи (вроде старухи Лариной: «и русский н, как п французский, произносить умела в нос»), злоупотребляли греческими оборотами, как наши деды галлицизмами, обесцвечивали язык, лишая его чистоты и оригинальной силы. Во избежание этого зла, Квинтилиан советовал уже не слишком опережать в преподавании греческой грамоты грамоту латинскую и, по возможности, вести уроки параллельно. Ранняя прививка юношеству чужого языка не могла не отозваться пагубно на развитии римской литературы. Золотой век латинской словесности был короток, а упадок свершился столь быстро и решительно, что весь эволюционный период ее можно определить в полтораста лет. Люди, которые маленькими детьми видели закат Виргилия (умер в 19 году до P. X.), Тибулла, Проперция, Горация (умер в 8 году до P. X.), расцвет и блеск Овидия (умер в 17 году по P. X.), могли, — правда, уже дряхлыми стариками, однако могли, — знать малюток, впоследствии знаменитых под именами Тацита (родился в 53 году по P. X.), Ювенала (род. в 47 году по Р. X.), Плиния Младшего (род. в 46 году по Р. X.): трех писателей, по смерти которых римский литературный гений навсегда утратил высокие творческие вдохновения, а латинский язык, менее чем в два века, успел выродиться в манерность Авзония и в sermo plebejus шести авторов Historiae Augustae. Это опять-таки напоминает быструю эволюцию нашей русской литературы, в которой долговечный старик, вроде Федора Глинки или Помпея Батюшкова, мог знать Карамзина и Чехова, Державина и Бальмонта. Эта скороспелость и, вместе с тем, непрочность сил римской литературы должны найти себе объяснение именно в торжестве эллинизма над римским обществом и его природным латинским языком. Под влиянием греческих идей, греческих образцов, грецизмов в разговорной речи, привычки думать по-гречески, латинский писатель, едва оперился талантом и стилем, как уже начал вырождаться, терять оригинальность, ступать по чужим, протоптанным тропам. Он не творец, но подражатель, — иногда очень талантливый, почти всегда чрезвычайно искусный, но все же произведения его — копии, второй сорт: первый пишется по-гречески. У Рима было много Батюшковых, но не успел родиться Пушкин... Начиная с Адрианова века, все литературно-сильное и общественно-влиятельное пишется по-гречески: Лукиан, Марк Аврелий, Филострат и, наконец, император Юлиан Отступник: изящнейший греческий стилист-сатирик, довольно слабо владевший латинским языком. Насколько глубоко пропитывался римлянин греческим воспитанием и речью, лучше всего дает понятие сцена убийства Юлия Цезаря в Капитолии, как она описана Плутархом: убийца Каска взывает к брату о помощи по-гречески, последнее восклицание умирающего Цезаря, — пресловутое «и ты Брут?» — раздалось по-гречески. Если греческий язык владел устами знатных римлян даже в моменты столь сильных эмоций, — ясно, что он для них был уже полной заменой родного. А ведь эпоха Юлия Цезаря — это только преддверие империи: впереди четыреста лет эллинизации, уверенной и неустанной победы греко-восточной культуры над латинской расой. Сатира Сенеки на смерть цезаря Клавдия усыпана греческими фразами, пародирующими придворный разговор I века, не меньше, чем усыпана фразами французскими первая глава «Войны и Мира», пародирующая придворный тон века XIX.