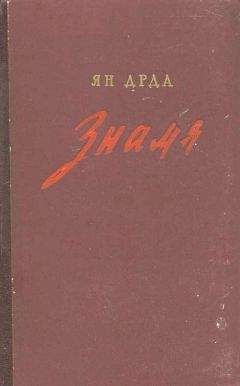Готвальд из наших. Он родился в небольшой хате в Дедицах и, как хороший столяр, умеет по-настоящему стукнуть по шляпке гвоздя. Он прямо в глаза говорит господам, что республика будет принадлежать трудящимся, — господам, которые еще и сегодня подогревают свою панскую похлебку. Он знает что к чему: не зря он учился у Сталина, не зря двадцать лет он боролся против барских прихвостней за дело рабочих! И за ним идут все рабочие. Как же такая живая и мощная сила, как парод, может проиграть! Нет, если только мы будем дружны и если глаза наши будут широко открыты, мы добьемся своего.
За короткое время мы увидели, как у богатых мужиков в нашей деревне отросли новые рога. Честное слово, они напоминали оленей. Когда угрожает опасность, рога у них отваливаются, но как только они приходят в себя, у них пробиваются новые, и, конечно, на отросток побольше. И тут кулаки начали донимать тех, кто становился им поперек дорога. Я вскоре и сам это испытал.
Наша корова Белянка пала при отеле, купить новую было не на что. Волей-неволей весной тысяча девятьсот сорок шестого года пришлось обратиться к кулаку Грубому. Он просто меня высмеял:
— Да зачем тебе пахать, приятель? Сейчас ты председатель национального комитета, деньги гребешь лопатой. Оставь поле попросту непаханным!
Другим богатеи боялись отказывать хотя бы потому, что все батраки разбежались и каждая пара рабочих рук была на счету. А обо мне они договорились: «Если председатель потеряет место, другой побоится занять его должность, и тогда в деревне не будет никакого беспокойства от этих голодранцев».
И мне пришлось надрываться с одной коровенкой, обрабатывать свое поле кое-как. Можно ли глубоко вспахать с одной животиной? Понятно, какой урожай я получил…
Когда после уборки в сорок шестом году на собрании национального комитета я заявил, что мы должны хозяйничать в интересах республики и что наша обязанность — дать стране как можно больше хлеба. Грубый перед всеми набросился на меня.
— Эх ты, хозяин! — кричал он на меня, как на мальчишку. — Только языком умеешь хозяйничать! А погляди, какая у тебя выросла пшеница! И курицу не стал бы я кормить такими обсевками.
У меня ком в горле стал от обиды при таких упреках, тем более, что в комитете все, кроме наших коммунистов, принялись громко смеяться надо мной: я-де стал теперь садовником, у меня в поле одни цветы растут…
И это была правда. Все у меня заросло сорняком. Стояла середина сентября, а я не мог выехать в поле: не с чем было….
Но поддержали меня в тот день воспоминания о Гоге, о «Красной Тортизе» и моя предобрейшая жена Андулка. Другая потребовала бы от мужа, чтобы он бросил политику и получше приглядывал бы за собственным добром да не сердил кулаков. А Андулка — нет. Узнав от меня о случившемся, она притянула меня к себе, погладила рукой по щеке и сказала так хорошо, как во времена молодости:
— Только не бойся их, Йозеф! Я думаю, что ты во всем прав и наша правда должна когда-нибудь победить! Ведь мы не одни: у нас есть партия, у нас есть товарищ, Готвальд, он хорошо знает, как кулаки точат на нас зубы, как хочется им снова загнать нас в старый хомут! Они погубили бы тебя, если бы ты был один. Но разве могут они что-нибудь сделать с целой партией? Я знаю, что говорят в деревне: Ветровца, мол, пустят по миру, в один прекрасный день он все свое хозяйство унесет в ранце за спиной и не почувствует тяжести в пути. Но мы посмотрим, кто кого! Если бы даже ты временно проиграл в Вишневой, если бы эти волки довели нас до нищеты, мы просуществовали бы и без них. Зато я всегда могу сказать: «Мой муж борется за лучшую жизнь для бедных людей, и это греет сердце лучше, чем кулацкая перина!»
И смотрите, ведь у них ничего не вышло. Товарищи одолжили мне коров, Гонза Каван приехал даже с плугом, и в сорок седьмом году, несмотря на засуху, мы обработали мое поле так, что оно было чистое, как ладонь. Кулаки, конечно, пытались еще кое-что мне подстроить: какой-то негодяй набросал мне проволоки в скошенный клевер, чтобы погубить мою последнюю коровенку, я получал письма, в которых мне грозили пустить «красного петуха» под крышу, а однажды ночью, когда я разбирался в служебных документах, кто-то швырнул камень в окно. Но наши прочно стояли рядом со мной, и это меня поддерживало.
Зато над Грубым из-за его прославленной пшеницы разразилась в конце концов ужасная гроза.
В январе сорок восьмого года пришел ко мне один печник из Закравья. Он хотя и не был коммунистом, но оказался честным человеком. Он и говорит:
— Председатель, я знаю, что Грубый не сдал даже и центнера в счет поставок… Вчера я был у них в доме, промазывал трубу. Не знаю, почему они позвали меня, когда у вас в Вишневой есть свои печники. Должно быть, он думал, что человек из другой деревни ничего не заметит. Но мне на его чердаке кое-что не понравилось: передняя стена там метра на два ближе к трубе, чем это кажется снаружи…
Мы организовали комиссию, выломали киркой несколько кирпичей и попали прямо в нору хомяка. Грубый спрятал больше ста мешков пшеницы — добрых пятьдесят центнеров. Он лишал чешских детей хлеба только ради того, чтобы был корм для его свиней.
У этих живоглотов всегда так бывало: человек для них — «ближний», но собственные свиньи еще ближе.
Когда мы увозили найденное зерно, он бесновался от злости, кричал нам вслед на всю деревню:
— Погодите, все равно скоро передохнете! Скоро вам конец придет!
Зять у него был каким-то главарем у зенкловцев, и Грубый был уверен, что тот непременно выручит его из беды.
Но прежде чем кулаки успели придумать какую-нибудь грязную увертку, над ними разразилась февральская гроза.
3
Что было после этого, вы знаете. Впрочем, мы переживаем это все вместе; иной раз голова чуть не разламывается от навалившихся забот. Но наши внуки все-таки когда-нибудь позавидуют нам, что мы жили в эти великие времена. Я с таким удовольствием читаю в «Истории» Палацкого о Яне Жижке, о гуситах, перед цепом которых трепетала вся Европа, а также о короле Иржике, о том, как он правил Чехией. И я представляю себе, что будет время, когда какой-нибудь новый Палацкий напишет о нашем Клементе Готвальде, как он сумел по-гуситски поставить господ на место, а также, как он сумел быть в своей стране хозяином лучше, чем все короли вместе взятые.
Ничего я так не желал бы, как встать через сто лет на недельку из могилы, посмотреть на нашу прекрасную Чехию и прочесть странички «Истории», которую напишут о нашем времени на радость и в назидание потомкам.
Я, однако, должен досказать о «Красной Тортизе». Дело было летом сорок девятого года, когда я передал председательство в местном национальном комитете Тонику Копичке, а на себя взял заботы о нашем едином сельскохозяйственном кооперативе. Вдруг за мной приезжают товарищи из округа.
— Послушай, Ветровец, что ты скажешь, если мы пошлем тебя в Советский Союз? Не надолго, на три-четыре недели, чтобы ты немного присмотрелся к советской жизни и привез нам побольше нового. Наш округ может послать одного делегата.
У меня в ту минуту в горле пересохло, и я не мог сперва вымолвить ни одного словечка. Неужели из стольких сотен тысяч наших людей, которые отдали бы часть жизни только за то, чтобы постоять на советской земле, выбрали именно меня?
Но это была правда. Я стал членом крестьянской делегации, увидел собственными глазами новый мир, где человек давно перестал быть человеку волком, увидел Москву, был в Кремле, стоял перед гробом Ленина, смотрел на его лицо. Я был даже там, где на счастье всего мира родился товарищ Сталин.
Грузия… Не могу даже рассказать, какая это чудесная страна! Когда мы летели туда, — это был солнечный октябрьский день, небо, как синька, — я сидел у левого окошечка, совсем впереди, так что через крыло мне было видно все, как на ладони. Вдруг я заметил внизу огромное белое кружево, а за ним бледно-голубое поле, как будто усеянное незабудками.
— Море, море! — говорю я товарищам, и все бросаются ко мне.
А Кадлец из Остржи, который сидел как раз напротив меня, только справа, вдруг вскочили кричит:
— Горы, горы! — А сам чуть стекло лбом не выдавил.
Перед нами громоздятся страшные обрывистые скалы Кавказа, высокие, до самого неба горы, такие огромные, что и не знаю, с чем их сравнить. На их вершинах блестящий под солнцем вечный снег. Он горит, пылает белым пламенем, точно какой-то сказочный клад. А под нами тишина и спокойствие, только на поверхности Каспийского моря видны крохотные пароходики и за ними тянутся белые клочки ваты. Даже не верится, что это дым… Глубоко внизу под нами над побережьем кружатся небольшие птички.
— Смотрите-ка, там внизу ласточки! — кричит кто-то.
— Ласточки? Нет, это орлы! — говорит сопровождающий нас переводчик, и глаза его полны радости. Ему нравится, что нас так удивляет красота Кавказа.