Наступила тишина, потом дверь скрипнула, и узкая полоска света упала на порог и замощенную камнем улицу. Комозой было поднял руку, предупреждая своих людей, однако Ларций дал отмашку — ломиться рано, дверь прихвачена изнутри.
— Ну, сними капюшон? — предложил тот же хриплый голос.
— А это видал?
Ларций показал обрубок, с которого предварительно снял крюк.
За дверью поохали, потом послышался кашель, наконец, что‑то отчетливо заскрипело, и как только створка начала приоткрываться, два громадных испанца дернули ее на себя. Привратник вылетел на улицу, там его стукнули по голове рукояткой меча, тот сразу упал на мокрую мостовую и притих.
Ларций первым ворвался в мастерскую, располагавшуюся в полуподвальном помещении. Находившемуся в прихожей молоденькому юнцу погрозил мечом.
— Молчи, а то!..
Тот сразу упал на колени, жестами показал, что все понял. Между тем в тесную прихожую начали проникать солдаты. Пока Ларций прилаживал крюк, наверху, во внутренних помещениях, куда вела лестница, кто‑то вскрикнул, следом раздался топот и крик. Солдаты бросились вверх по лестнице. Всю банду взяли на заднем дворе, в бане. Тех, кто сидел на бортике бассейна и попытался дотянуться до оружия, зарезали сразу и сбросили в воду, где отдыхал распарившийся Сацердата. Кровь густыми клубами начала распространяться по прозрачной, голубоватой, жидкой толще. Испанцы спрыгнули в бассейн, выловили разбойника, вытащили на бортик и поставили перед Ларцием.
Смотрел Сацердата зло, хмурился, однако взгляда не отводил.
— Повернись, — приказал префект.
На спине отчетливо просматривались рубцы от бича, которым ловко орудовали легионные палачи. Выходит, еще и дезертир.
— Лицом ко мне.
Когда Сацердата повернулся, префект спросил.
— Служил?
— Было дело, — признался разбойник.
— Итак, дезертирство, покушение на убийство, вымогательство. Этого вполне достаточно, Сацердата. Как полагаешь? Может, сейчас и посчитаемся?
Разбойник усмехнулся.
— Неужели римский префект поднимет руку на безоружного? Хотя с благородного римского префекта станется.
— Ты раб, ты не вправе носить оружие.
— Ошибаешься. Я — вольноотпущенник, и пока не доказано обратное, никто не вправе лишить меня жизни. А посчитаться мы всегда успеем. Еще посмотрим, кому в следующий раз подмигнет Фортуна.
Гнев ударил Ларцию в голову, он с трудом сдержал себя. Приказ был ясен и не допускал толкований — сдавшихся и безоружных доставлять в казармы. Какова будет их судьба, никто, кроме императора, не ведал. Но все, кто был задействован в облаве, догадывались — после короткого разбирательства преступников отправят на арену. Пусть они на глазах у римской публики сразятся друг с другом, а не с беззащитными, не успевшими до темноты добраться домой прохожими, с вдовами, потерявшими кормильцев, с дряхлыми стариками и старухами.
Другое тревожило. Сацердата не так прост, у него могучие покровители, и неизвестно, дойдет ли до него очередь, сумеют ли эдилы вывести его на арену, а тут он стоит голенький, беззащитный. Позволяет себе дерзить, угрожает. Тут еще Комозой, всегда готовый пустить в дело меч, подкатил.
— Может, кончить его?..
Ларций глянул на него — высоченного, раскрасневшегося, забрызганного кровью, потом перевел взгляд на окончательно окровавившийся бассейн. На поверхности спинами вверх плавали три трупа.
— Посмотрим. Если по дороге.
Всего в лавке задержали восьмерых членов банды и «малыша», как называли сообщники того самого юнца, сробевшего в вестибюле. Малыш назвал себя Витразином, остальные хранили молчание. Ту же дерзость проявили преступники, когда Ларций поинтересовался, где они прячут награбленное? Сначала Сацердату, затем его подручных приласкали огнем. Подручные принялись причитать и призывать богов в свидетели, что не ведают о тайнике. Мол, добычу главарь всегда переправлял в какое‑то другое место. Когда Комозой угостил огнем Витразина, тот вспомнил, что в одном из жилых помещений стену недавно заделали кирпичом. Там кладка свежее. Отправились на поиски этого помещения. Когда внутренность потайной камеры осветили мерцающим, дребезжащим светом факела, просунувший туда голову Фосфор присвистнул.
— Ну, дела!..
Ларций заглянул в пролом. В небольшой тесной комнате стояло два сундука с золотыми монетами, на полках — серебряные блюда. Там же располагалась большая, обитая мягкой кожей, удлиненная коробка. Префект усмехнулся — не густо. Только простаку Фосфору эта добыча могла показаться царскими сокровищами. Принимая в расчет срок, в течение которого Сацердата орудовал в городе, его добыча должна была составить многие таланты всякого имущества — золотые изделия, самоцветы, куски дорогих тканей. Он и слоновой костью не брезговал.
Ларций сплюнул и приказал составить опись.
Сацердата усмехнулся.
— Ну, ты служака, префект. Надеешься сохранить доверие тех, кому будешь сдавать изъятое у меня имущество? Неужели ты настолько глуп, Лонг? Неужели полагаешь, что твое начальство поверит, что ты не прикарманил бóльшую часть добычи? Ты вел себя умнее, когда вырвал у меня золотой палец.
Ларций приблизился и ударил Сацердату по голове рукоятью меча. Кровь залила лицо фракийца.
— Глуп ты, разбойник! По себе судишь, — ответил Лонг. — Это у вас каждый рад выхватить кусок из глотки подельника. Тот, кто отдал мне приказ, достаточно опытен, чтобы разобраться, обманываю я его или нет. Он позволил мне наградить бойцов по собственному усмотрению. Они получат долю из твоего имущества, остальное отойдет в казну.
Сацердата, страдающий от потоков крови, натужно и хрипло засмеялся.
— Ну — ну.
Между тем Фосфор извлек из тайника обшитую кожей коробочку. Едва удержал ее в руках
— Ого, — воскликнул он, передавая добычу Ларцию. — Тяжелая.
Действительно, приняв коробку правой рукой, Ларций едва не выпустил ее. Пришлось подсобить крюком на левой.
— Что здесь? — спросил он.
Сацердата засмеялся ему в лицо.
— Взгляни, если такой смелый.
— Ты, негодяй, полагаешь, что я испугаюсь твоих угроз?
Он поставил шкатулку на столик, нащупал замок, нажал и крышка откинулась.
В тусклом подрагивающем свете факелов Ларций различил отлитую из золота, человеческую руку, отпиленную ближе к локтю. Сходство было ошеломляющим, разве что размеры были великоваты для обычного предплечья, но более всего Ларция поразил несуразно длинный и омерзительно изогнутый, большой палец. Казалось, еще мгновение, и этот отведенный в сторону отросток замкнет хватку, к которой изготовились четыре других, вполне человечьих пальца. Всем остальным рука очень напоминала ту, которая когда‑то принадлежала статуе Домициана.
Префект удивленно глянул на Сацердату.
Тот довольно рассмеялся.
— Она и есть, — подтвердил разбойник. — Я приказал отлить оторванный тобой палец и приладить его на прежнее место.
Резким движением Сацердата попытался стряхнуть с лица набегавшую кровь.
— Я смотрю, — добавил он, — палец Домициана принес тебе удачу. Послушай доброго совета, Лонг. Сдай руку в императорскую сокровищницу, пусть ее перельют на золотые аурелии. Она приносит несчастье. Видишь, что со мной приключилось.
— Поговори у меня, — предупредил Ларций и приказал вывести разбойника.
В ту же ночь в Риме было взяты несколько сотен преступников, сведения о которых все эти месяцы собирал новый префект города Сервиан и ответственный за доставку хлеба в столицу Помпей Лонгин. Еще с неделю караулы и конные разъезды сингуляриев вылавливали прятавшихся в окрестностях Рима злоумышленников. Что касается поименно известных доносчиков, их числом около сотни свезли в лагерь преторианцев. Два дня держали под строгой охраной — многие жители были не прочь посчитаться с ними. Были отмечены попытки подкупить легионеров, чтобы те тихо, без шума прирезали кое — кого из задержанных.
Утром третьего дня был объявлен эдикт императора, в котором сообщалось, что репрессивные меры направлены исключительно на установление мира и спокойствия в столице. В эдикте также говорилось — пусть судьбу преступников решат боги. На следующий день доносчиков под усиленным конвоем и в сопровождении многочисленных граждан, выкрикивавших проклятия негодяям, доставили в Остию — порт, являвшийся морскими воротами Рима. Здесь посадили на ветхую трирему, которую без задержки на буксире вывели в открытое море и, отцепив канат, бросили на произвол судьбы. Доносчики, облепившие борта, громко взывали о милосердии, ломали в отчаянии руки, рыдали, призывали в свидетели богов — пусть те подтвердят, что они в своих обвинениях руководствовались исключительно интересами государства.
Каялись немногие.
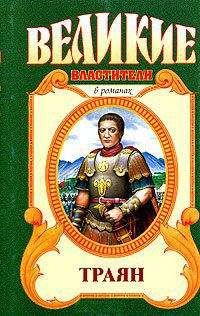
![Э. Гиббон - История упадка и крушения Римской империи [без альбома иллюстраций]](https://cdn.my-library.info/books/173961/173961.jpg)



