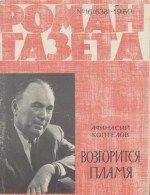— Я собираюсь к вам в долину… Тои у вас будут? — робко спросила Яманай.
— Не слышно о тоях.
— У вас, помнится, еще один брат есть неженатый?
— Нет. Нас только трое.
Яманай замолчала, растерянно перебирая бусы на груди.
— К нам скоро народ будет собираться. Не на той, а на ученье, — проговорил Борлай, нарушая неловкое молчание.
Из-за столпившихся лиственниц показались на тропе всадники. Впереди — Сапог с Шатыем, а за ними — старики-прислужники.
Яманай юркнула в лес, но ее успели заметить.
Токушев ехал, вскинув голову, не сворачивая с тропы, и пренебрежительно смотрел на Сапога. Кони их остановились, обнюхивая друг друга. Гнедой угрожающе взвизгнул и начал бить копытом землю.
— Чего остановился? Большому Человеку дорога должна быть чистой! — закричали старые прислужники.
Токушев нахмурился.
Лицо Тыдыкова позеленело, руки задрожали. Минуту он молчал. Потом посмотрел в ту сторону, куда убежала Яманай, и, ухмыльнувшись, поклонился:
— Желаю всяческих успехов ловкому человеку. Бабочка эта вроде молодой кобылицы: мягкая, гладенькая и по зубам не бьет.
— Замолчи, старый волк! — крикнул Борлай и сплюнул.
Гнедой жеребец укусил лошадь Сапога. Она, вырвав поводья из рук хозяина, бросилась в сторону от тропы. Токушев добавил ей ударом плети, да так, что Тыдыков едва удержался в седле. Это было неслыханным оскорблением, и Сапог разъярился. Заикаясь, он не находил слов, чтобы похлеще обругать обидчика.
Старые прислужники бая засыпали проклятиями ненавистного им сородича. А тот, придерживая разгоряченного жеребца, косо посматривал то на Сапога, то на Шатыя, то на их подручных.
Придя в себя и подавив ярость, Тыдыков ехидно остановил стариков:
— Не ругайте знаменитого человека.
Зная, что насмешка бьет сильнее самой грубой ругани, он продолжал:
— Дайте ему дорогу. Ему некогда, надо утешать молоденькую сестру.
— Перестань, злая собака, мы тебе это еще припомним! — гневно выкрикнул Борлай и понукнул коня.
Больше всего он оскорбился за Яманай. Она подкупила его смелостью непринужденного разговора. Ему захотелось снова увидеть ее и утешить теплым словом.
«Теперь все должно быть по-иному, — подумал он, когда снова погрузился в лесную тишину. — И Ярманка не виноват, и Яманай не виновата. Суртаев говорил правильно, что старые арканы, которыми был связан сеок, изломали им душу, смяли сердца».
На склоне холма на сырой жерди, приподнятой к небу, висела шкура сивой лошади. Свежие капли крови горели на солнце. Заметив жертву, Борлай холодно повел плечами:
«Опять коня задрали».
На лужайке он приостановился и громко позвал Яманай.
Лес молчал.
2
Накануне возвращения Борлая Утишка Бакчибаев привез какого-то малоизвестного шамана, захудалого старика с бельмом на правом глазу, и на холме посреди долины принес двухлетнего жеребенка в жертву богам.
На следующее утро люди собрались к подножию холма, где Утишка ковырял землю лиственничным суком. Дочь ехала верхом на коне, впряженном в самодельную соху, а отец всей грудью наваливался на рукоятку. На земле оставалась неглубокая черта.
Глядя на эту тяжелую работу, Байрым покачал головой.
— Так пахать — зря терять силы, — сказал он.
— А вы и так не пашете, — обидчиво упрекнул Утишка.
— Подожди, будем пахать всем товариществом, так же, как пашут в русской «Искре».
— Ой, ой! — рассмеялся Утишка.
Исчертив облюбованный участок вдоль, он начал ковырять его поперек. Прошло несколько дней, а он обработал какую-нибудь пятую часть гектара. В то утро, когда он собрался сеять, люди снова сошлись к его полоске. Любопытные взоры ребят и завистливые взгляды взрослых запечатлевали в памяти каждое движение Утишки. Вот он развязал мешок, долго пересыпал с ладони на ладонь зерна, будто жалел их и не надеялся, что земля возвратит посеянное. Попробовал ячмень на зуб.
Многие думали об осени. Они представили себе, как от аила Утишки потянутся завьюченные лошади, во всех переметных сумах — ячмень.
— Много он тут соберет? — завистливо спросила одна старая алтайка.
— Я слышала, сам говорил: «Обрасту достатком, как медведь салом», — ответила ее собеседница.
В это время показался всадник на породистом жеребце. Пегая лошадь бежала впереди, как бы показывая путь к становью.
Четырнадцатилетний сын Содонова Тохна первым заметил всадника и, подпрыгивая, поспешил обрадовать людей звонким криком:
— Едет!.. Едет, едет!.. Смотрите, едет Борлай на хорошем жеребце!
И у всех пропал интерес к Утишке. Ведь он, начиная посев ячменя, заботился только о себе, а Борлай — обо всем товариществе. Люди толпой двинулись навстречу Борлаю, ребятишки вприпрыжку бежали впереди.
Борлай не мог проехать к своему аилу. Осматривали жеребца со всех сторон, косы в гриве плели, легонько гладили. Токушев не успевал отвечать на вопросы. Всех удивляло, что жеребца государство дало бесплатно, только обязало записывать приплод.
Сенюш повис на поводу, раскрывая рот Гнедого.
— Молодой. Пятый год, — сообщил он. — Караулить надо. Как бы ему горло не перервали.
— Скорее мы перервем кому следует, — погрозил Байрым.
— Поочередно караулить с винтовками, — предложил старший Токушев.
Содонов повернулся к Борлаю, подал ему свою трубку, а потом размеренно, будто зная, что не откажут, попросил:
— Принимай меня в свое товарищество. Я тоже напористый. Надейся на меня, как на самого себя.
— А ты почему раньше не записывался?
Содонов запустил пальцы в свою жесткую, как щетина, бороду.
— Я думал, разговоры одни, а толку никакого не получится. Начнешь ты ездить по разным курсам, а про нас забудешь. Теперь вижу, что ты по-настоящему взялся и Советская власть помогает нам. Принимай!
После Утишки Содонов считался самым состоятельным середняком в кочевье: у него было десятка полтора коров, одиннадцать лошадей, баранов столько, что он каждую осень шил новые шубы. Борлай, зная, что многие алтайцы посматривали на этого волосатого человека и прислушивались к нему, мысленно выразил надежду: «Утишка у нас, да этот запишется — тогда все в товарищество войдут».
И степенно ответил:
— Я думаю, что примем. Ты приходи на собрание.
— Я не последний человек, от своего слова не бегаю, — сказал Содонов.
В аиле Борлая ждала жена. Она вытрясла последнюю муку, полученную от Госторга за пушнину, замесила крутое тесто, выкатала из него толстые лепешки — теертпек — и пекла их в горячей золе. На мужской половине был собран завтрак: в березовом корытце сметана, в чашке перепревшая во время выгонки араки пена чегеня — знак глубокого уважения.
Борлай сел к огню. Ему захотелось сказать жене то, что он много раз думал: «Какая ты у меня заботливая, милая хлопотунья!» — но доброе желание тотчас же сменилось чувством неловкости, будто эти слова действительно были произнесены: с детства привык не говорить о своих чувствах и думах. Он только ласково посмотрел на нее да поправил косы, перекинувшиеся за плечо. А Карамчи взглянула на него преданными, блестящими от радости глазами.
Той порой к нему приковыляла дочка, одетая в серую рубашку и белую барашковую шапочку. Отец посадил ее к себе на колени, ласково похлопал по спинке и, обмакнув кусочек хлеба в сметану, угостил ее. И опять у него появилось желание похвалить Карамчи. «У соседок дети до пяти лет бегают нагими, а у нее, любящей и беспокойной матери, маленькая Чечек одета».
— Она имя свое научилась выговаривать, — сообщила Карамчи.
— Да ну? Как тебя звать?
— Чечек, — уверенно пролепетала девочка.
Борлай в открытые двери указал на цветущий луг:
— Вот там чечек, много чечек.[21]
— Нет, там — трава. Я — Чечек, — обидчиво настаивала дочь.
Рассматривая ее светлое личико и сравнивая с лицом матери, Токушев подумал: «Если бы сын… лет через десять он пошел бы со мной на охоту. Я сделал бы его первым стрелком».
Жена села против него, раскурила трубку и тихонько протянула через огонь. Девочка шаловливо вырвала ее у матери и ткнула в рот очнувшемуся от раздумья отцу.
— Гони от себя грусть: я видела сон, будто у меня родился мальчик, — звенел приятный голос Карамчи.
Выражая уважение к мужу, она погладила свои косы, унизанные монетами и пуговицами.
3
К вечеру надвинулась туча. Где-то за горой глухо ворчал гром. Старого Токуша не было дома, и Чаных развела большой костер: все повеселее.
Она подогревала не допитый днем чай, когда исступленно залаяла собака. К жилью подходил кто-то чужой. Остроухий никогда так не лаял на людей своего кочевья. Женщина замерла. Ей показалось, что она ясно слышала чье-то тяжелое дыхание. Не медведь ли пожаловал? Чаных посмотрела на незаряженное ружье, медленно перевела взгляд на костер и схватила самую большую головешку.